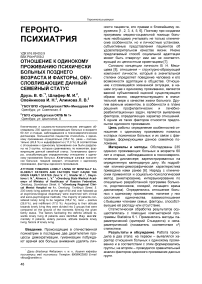Отношение к одинокому проживанию психически больных позднего возраста и факторы, обусловливающие данный семейный статус
Автор: Друзь Владимир Фдорович, Шлафер М.И., Олейникова И.Н., Алимова Л.В.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Геронтопсихиатрия
Статья в выпуске: 5 (80), 2013 года.
Бесплатный доступ
Клиническим и социально-психологическим методами обследованы 235 одиноко проживающих больных в возрасте 60 лет и старше, наблюдавшихся в психоневрологическом диспансере. Большинство пациентов относились к одинокому проживанию отрицательно (56,2 %), реже - положительно (26,8 %) и индифферентно (17,0 %). В соответствии с отношением к одинокому проживанию они были разделены на 3 группы, которые сравнивались по моментам, формирующим данный семейный статус. Установлены факторы, способствующие определенному отношению к одинокому проживанию больных.
Психически больные, поздний возраст, отношение к одинокому проживанию, факторы одинокого проживания
Короткий адрес: https://sciup.org/14295671
IDR: 14295671 | УДК: 616.89-053.9
Текст научной статьи Отношение к одинокому проживанию психически больных позднего возраста и факторы, обусловливающие данный семейный статус
ности пациента, его правам и ближайшему окружению [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Поэтому при создании программы медико-социальной помощи больным необходимо учитывать не только клинические особенности, но и личностные установки, субъективные представления пациентов об удовлетворительном качестве жизни. Иначе предлагаемый способ социальной адаптации может быть отвергнут ими как не соответствующий их ценностным ориентациям [7].
Согласно концепции личности В. Н. Мясищева [8], отношения – структурно-образующий компонент личности, который в значительной степени определяет поведение человека и его возможности адаптации в обществе. Отношение к сложившейся жизненной ситуации, в нашем случае к одинокому проживанию, является важной субъективной оценкой существующего образа жизни, свидетельствующего в значительной мере о качестве жизни больного. Другим важным моментом, в особенности в плане решения профилактических и лечебнореабилитационных задач, является выявление факторов, определяющих характер отношений. К одним из таких факторов относятся предпосылки одинокого проживания.
Цель работы: определение особенностей отношения к одинокому проживанию пожилых и старых психически больных и их связи с факторами, формирующими данное семейное положение.
Материалы и методы . Обследованы 235 одиноко проживающих больных в возрасте 60 лет и старше, наблюдавшихся в психоневрологическом диспансере, зарегистрированных на определенную календарную дату. Их подробная клинико-демографическая характеристика приведена нами ранее [6]. Наряду с клиническим применялся и социально-психологический метод (анкетирование, интервьюирование по специально разработанной программе больного, родственников, соседей, лечащего врача диспансера). Определялись отношение больных к одинокому проживанию, наличие у них состояния одиночества, взаимоотношения с бывшими членами семьи, факторы, способствующие её распаду или отсутствию.
Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью компьютерной программы Statistica 6.1. Применялись методы параметрической (критерий Стьюдента) и непараметрической (показатель соответствия х²) статистики.
Результаты и обсуждение . Работа проходила в два этапа: на первом – выявлялся характер отношения больных к одинокому проживанию и в соответствии с этим формировались группы; на втором – проводился сравнительный анализ факторов одинокого проживания данных групп.
На первом этапе выделены три варианта отношения к одинокому проживанию: отрицательное (сопровождается состоянием одиночества), индифферентное (пациенты спокойно или равнодушно относятся к своему образу жизни) и положительное (больные довольны существующим семейным статусом, доказывают его предпочтительность перед проживанием с родственниками). Большинство больных (132 – 56,2 %) относились к одинокому проживанию отрицательно (первая группа), в 3 раза реже (40 – 17 %) – индифферентно (вторая группа) и в 2 раза реже (63 – 26,8 %) – положительно (третья группа). Различия между группами статистически достоверны. Обнаруженные различия: между первой и второй, первой и третьей – р<0,001, второй и третьей – р<0,05.
На втором этапе установлено следующее. При рассмотрении факторов одинокого проживания все больные были разделены на две категории, поскольку отношение к одинокому проживанию и переживание одиночества зависят от наличия собственной семьи (супруг, дети) у больного в прошлом или её отсутствия [7]. Первая группа – пациенты, имевшие собственные семьи (171 – 72,8 %), вторая группа – пациенты, не создавшие их (64 – 27,2 %). Вначале они жили в генеалогических (родительских) семьях, затем, став взрослыми, отделились или после смерти родителей стали жить одиноко. Сравнение по этому показателю установило, что в первой и третьей группах наблюдались сходные явления, отличные от второй. В них 4/5 больных (77,3 % – в первой и 82,5 % – в третьей группах) имели собственные семьи и 1/5 часть пациентов (22,7 и 17,5 % соответственно) не имела (р<0,001). Во второй группе отмечалась обратная тенденция. Более чем у половины больных (57,5 %) не было собственной семьи, оставшаяся часть (42,5 %) смогла её создать. Различие между этими частями было недостоверным (р>0,05). Различия между группами в целом статически значимы (х²=22,9; n=2; р<0,002).
Факторы, разрушающие семью, мы обозначили как факторы первого типа, препятствующие её созданию – как факторы второго. В каждом типе факторов выявлены две разновидности (подтипы). В первом типе – клинические (ведущий синдром), а также возрастные (смерть близких и отделение взрослых детей) и социально-психологические (семейные конфликты) факторы, во втором типе – клинические (ведущий синдром), а также сочетание в преморбиде субклинических (расстройства личности) и социально-психологических (дисгармоничные отношения в генеалогических семьях). Распределение этих факторов в группах отражено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение больных по факторам одинокого проживания и группам
|
Факторы одинокого проживания |
Группы |
Всего |
||||||
|
Первая |
Вторая |
Третья |
||||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
|
|
I тип (распад собственной семьи) |
||||||||
|
I подтип (клинические факторы) |
38 |
28,8 |
11 |
27,5 |
27 |
42,9 |
76 |
32,3 |
|
II подтип (возрастные и социальнопсихологические факторы) |
64 |
48,5 |
6 |
15 |
25 |
39,7 |
95 |
40,4 |
|
II тип (отсутс твие собственной семьи) |
||||||||
|
I подтип (клинические факторы) |
10 |
7,6 |
12 |
30 |
6 |
9,5 |
28 |
11,9 |
|
II подтип (субклинические и социальнопсихологические факторы) |
20 |
15,2 |
11 |
27,5 |
5 |
7,9 |
36 |
15,3 |
|
Итого |
132 |
100 |
40 |
100 |
63 |
100 |
235 |
100 |
|
Значимость различий |
х²=30,9; n=6; р<0,001 |
|||||||
Из приведенных в таблице 1 результатов видно, что удельный вес клинических факторов, разрушающих собственную семью, самый высокий в третьей группе. В первой и второй группах он практически одинаковый. Возрастные и социально-психологические факторы распада семьи чаще всего встречались в первой группе, реже – в третьей и ещё реже – во второй. Анализ соотношения клинических и неклинических факторов, разрушающих семью, показал, что в первой группе почти в 2 раза чаще отмечались возрастные и социально-психологические факторы (р<0,001). Во второй группе наблюдалась противоположная тенденция – клинические факторы встречались почти в 2 раза чаще, чем неклинические, но различие было недостоверным (р>0,05), поэтому можно говорить только о тенденции. В третьей группе наблюдалось примерно равное соотношение клинических факторов с возрастными и социальнопсихологическими.
Сравнение клинических факторов, затрудняющих создание семьи, обнаружило, что во второй группе их доля была в 4 раза больше, чем в первой, и в 3 раза больше, чем в третьей. Различие между первой и третьей группами было незначительным. Схожая тенденция наблюдалась при оценке сочетания субклинических и социально-психологических факторов, препятствующих вступлению в брак. Их удельный вес во второй группе был почти в 2 раза больше, чем в первой, и в 3,5 раза больше, чем в третьей. В первой группе эти факторы встречались в 2 раза чаще, чем в третьей. Определение соотношения клинических с сочетанием субклинических и социально-психологических факторов выявило, что в первой группе последние встречались в 2 раза чаще (р<0,05), тогда как в остальных группах данное соотношение было примерно равным.
Сравнение конкретных факторов одинокого проживания выявило существенные различия в группах (табл. 2). Среди клинических факторов распада семьи в первой группе чаще всего встречался психоорганический синдром. Далее в порядке убывания следовали психопатоподобный и депрессивный синдромы, «параноид жилья» [8] и лакунарная деменция. Психоорганический и деменция были только в этой группе. Отсутствовали наблюдавшиеся в других группах бред ревности и апатоабулический. Во второй группе отмечалось всего три синдрома. Чаще всего – апатоабулический, реже и с одинаковой частотой – бред ревности и «параноид жилья». В третьей группе на первом месте по частоте стояли бред ревности и «параноид жилья», на втором с одинаковой частотой встречались психопатоподобные и апатоабулические синдромы, реже – депрессивный. При сравнении доли сходных факторов в группах установлено, что в первой группе депрессивные расстройства отмечались чаще, чем в третьей, «параноид жилья» – реже, чем в других группах, психопатоподобные синдромы – с такой же частотой, что и в третьей группе. Во второй группе апатоабулические расстройства наблюдались чаще, чем в третьей, бред ревности и «параноид жилья» – реже. Следует отметить, что психоорганические, депрессивные синдромы и лакунарная деменция в меньшей степени нарушают семейные отношения, чем бредовые, апатоабулические и психопатоподобные расстройства [9, 10]. Кроме того, наблюдались отличия в клинических проявлениях при сходных синдромах в группах. В первой персекуторный бред в структуре «параноида жилья» был направлен главным образом на соседей, во второй и третьей – на членов семьи. Среди психопатоподобных расстройств в первой группе доминировал астенический радикал, в третьей группе преобладали шизоидные и возбудимые особенности с агрессивными тенденциями.
Сопоставление возрастных и социальнопсихологических факторов распада собственной семьи также показало заметное различие в группах. В первой группе наблюдалась наиболее гетерогенная структура. Присутствовали все выявленные моменты. Более половины составила смерть близких, в основном супругов. Почти в 3 раза реже встречалось отделение взрослых детей. Далее в порядке убывания следовали конфликт с зятьями и невестками, развод из-за пьянства супругов и плохие жилищно-бытовые условия, порождавшие коллизии в семье (не отмечались в других группах). Вторая группа была наиболее гомогенной – в ней присутствовал один фактор – смерть супругов, удельный вес которого был меньше, чем в первой группе. Третья группа была менее гомогенной – в ней наблюдались три фактора.
Чаще всего отмечался развод из-за пьянства супругов. Эта ситуация встречалась почти в 4 раза чаще, чем в первой группе. Несколько реже причиной разрушения семьи являлся конфликт пациентов с зятьями и невестками, его доля была в 3 раза больше, чем в первой группе. Третьим моментом было отделение взрослых детей, оно наблюдалось реже, чем в первой группе. Сравнение аналогичных возрастных событий и социально-психологических моментов выявило различие в группах. В первой группе смерть супруга вызвала у больных чрезмерную «реакцию горя» [11] с переживанием одиночества [12], ставшими причиной или триггерным механизмом возникновения или обострения психических расстройств. Этому способствовали тесная эмоциональная связь пациентов с супругами, благоприятные семейные отношения типа «сотрудничества» и «гиперопеки», негрубые изменения личности, проявляющиеся чаще всего астенической и психоорганической симптоматикой. Во второй группе утрата супругов не сопровождалась психогени-ей, так как состояние пациентов определялось достаточно выраженным органическим или шизофреническим дефектом, а отношения в семьях носили характер «эмоционального отчуждения». Семейные конфликты в третьей группе имели более тяжелый характер, чем в первой. Инициатива раздельного проживания в ней была взаимной – больных и всех членов семьи. Тогда как в первой группе инициаторами разъезда были дальние родственники (зять, невестка), в то время как пациенты из-за привязанности к детям и внукам желали остаться в семье. Дети отвечали взаимностью, но чтобы сохранить собственную семью вынуждены были оставить больных.
Рассматривая клинические факторы, препятствующие созданию семьи, мы определили сходные явления в первой и третьей группах. В них примерно с одинаковой частотой затрудняла вступление в брак начавшаяся в молодом или среднем возрасте шубообразная шизофрения, протекающая с бредовыми приступами. Во второй группе, помимо данного варианта шизофрении, встречавшегося чаще, чем в указанных группах, отмечалась ещё более прогредиентная шубообразная форма с рано сформировавшимся отчетливым апатоабулическим дефектом. Анализ расстройств личности и дисгармоничных отношений в генеалогических семьях в преморбиде, мешавших вступлению в брак, показал различия в группах. В первой группе наблюдались астенические, психастенические, сенситивные, истерические проявления и отношения в семьях типа «гиперопеки», «симбиотических». Во второй группе – шизоидные, возбудимые и семейные отношения по типу «эмоционального отчуждения», «оппози- ции» [13]. В третьей группе отмечались шизо-эпилептоидные, шизоистерические особенности характера и отношения в семьях типа «взаимных диссоциаций» [13], «оппозиции». Учитывая высокую коморбидность расстройств депрессивного спектра у больных пожилого и старческого возрастов, перспективным направлением является разработка комплексного подхода к оказанию помощи больным позднего возраста с привлечением специалистов терапевтического и психиатрического профилей, а также медицинских и социальных работников [14—16].
Полученные результаты показывают неоднозначность отношения психически больных позднего возраста к одинокому проживанию. Хотя большинство пациентов тяготится им, испытывая состояние одиночества, около 1/5 относится к нему спокойно, а более 1/4 – положительно, предпочитая такой образ жизни совместному проживанию с родственниками.
Таблица 2
Распределение больных по конкретным факторам одинокого проживания и группам
|
Факторы одинокого проживания |
Группы |
Всего |
||||||
|
Первая |
Вторая |
Третья |
||||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
|
|
I тип (распад собственной семьи) |
||||||||
|
I подтип (клинические факторы) |
||||||||
|
Бред ревности |
0 |
0 |
3 |
7,5 |
8 |
12,7 |
11 |
4,7 |
|
«Параноид жилья» |
4 |
3 |
3 |
7,5 |
8 |
12,7 |
15 |
6,4 |
|
Депрессивные расстройства |
8 |
6,1 |
0 |
0 |
1 |
1,6 |
9 |
3,8 |
|
Психопатоподобные |
10 |
7,6 |
0 |
0 |
5 |
7,9 |
15 |
6,4 |
|
Психоорганические |
12 |
9,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
5,1 |
|
Апатоабулические |
0 |
0 |
5 |
12,5 |
5 |
7,9 |
10 |
4,3 |
|
Деменция |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1,7 |
|
II подтип (возрастные и социально-психологические факторы) |
||||||||
|
Смерть супругов |
32 |
24,2 |
6 |
15 |
0 |
0 |
38 |
16,2 |
|
Смерть детей |
3 |
2,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1,3 |
|
Отделение взрослых детей от родителей |
13 |
9,8 |
0 |
0 |
4 |
6,3 |
17 |
7,2 |
|
Конфликт с зятьями и невестками |
7 |
5,3 |
0 |
0 |
10 |
15,9 |
17 |
7,2 |
|
Плохие жилищнобытовые условия |
3 |
2,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1,3 |
|
Развод из-за пьянства супругов |
6 |
4,5 |
0 |
0 |
11 |
17,5 |
17 |
7,2 |
|
II тип (отсутствие собственной семьи) |
||||||||
|
I подтип (клинические факторы) |
||||||||
|
Бредовые синдромы |
10 |
7,6 |
5 |
12,5 |
6 |
9,5 |
21 |
8,9 |
|
Апатоабулический дефект |
0 |
0 |
7 |
17,5 |
0 |
0 |
7 |
3 |
|
II подтип (субклиничекие и социально-психологические факторы) |
||||||||
|
Сочетание факторов |
20 |
15,2 |
11 |
27,5 |
5 |
7,9 |
36 |
15,3 |
|
Итого |
132 |
100 |
40 |
100 |
63 |
100 |
235 |
100 |
|
Значимость различий |
х² |
=146, |
1; n= |
30; р<0,001 |
||||
Установлена связь определенного отношения больных к одинокому проживанию с факторами, формирующими данную ситуацию. Для отрицательного отношения характерно наличие собственной семьи, распад которой главным образом обусловлен возрастными и социальнопсихологическими факторами, меньшее значе- ние имели клинические моменты, ещё реже играло роль отсутствие собственной семьи, в основном вследствие сочетания в преморбиде субклинических и социально-психологических факторов, совсем редко из-за клинических. Для индифферентного отношения свойственно примерно равное соотношение больных, имевших и не имевших собственной семьи с тенденцией к превалированию последних. Отсутствие семьи было обусловлено в равной мере клиническими и сочетанием в преморбиде субклинических с социально-психологическими предпосылками. В разрушении семьи бóльшую роль играли клинические моменты, нежели возрастные события. Для положительного отношения типично наличие собственной семьи, в дезинтеграции которой в равной мере участвовали клинические и социально-психологические с возрастными обстоятельствами, меньше значение имело отсутствие собственной семьи как из-за клинических, так и в силу сочетания в преморбиде субклинических и социально-психологических факторов.
Таким образом, для каждого варианта отношения больных к одинокому проживанию существует свой, отличительный набор факторов, формирующих этот семейный статус. Полученные данные способствуют осуществлению комплексного и дифференцированного подходов при оказании медико-социальной помощи одиноко проживающим психически больным позднего возраста, что приведёт к повышению уровня их социальной адаптации.