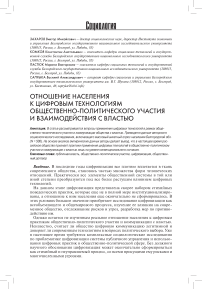Отношение населения к цифровым технологиям общественно-политического участия и взаимодействия с властью
Автор: Виктор Михайлович Захаров, Константин Анатольевич Комков, Марина Викторовна Пастюк, Василий Александрович Сапрыка
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы применения цифровых технологий в рамках общественно-политического участия и коммуникации общества с властью. Приводятся данные авторского социологического исследования, включающего массовый анкетный опрос населения Белгородской обл. (N = 500). На основе анализа эмпирических данных авторы делают вывод, что в настоящее время российское общество признает практики применения цифровых технологий в общественно-политическом участии и коммуникации с властью лишь на уровне конвенционального согласия.
Публичная власть, общественно-политическое участие, цифровизация, общественный договор
Короткий адрес: https://sciup.org/170174607
IDR: 170174607 | DOI: 10.31171/vlast.v29i2.8046
Текст научной статьи Отношение населения к цифровым технологиям общественно-политического участия и взаимодействия с властью
Введение. В последние годы цифровизация все плотнее вплетается в ткань современного общества, становясь частью множества форм человеческих отношений. Практически все элементы общественной системы в той или иной степени преобразуются под все более растущим влиянием цифровых технологий.
На данном этапе цифровизация представлена скорее набором стихийных поведенческих практик, которые еще не в полной мере институционализированы, а отношение к ним населения еще окончательно не сформировалось. В этих условиях большое значение приобретает исследование цифровизации как всеобъемлющего и общемирового процесса, изучение ее влияния на современное общество, отслеживание рисков и угроз, разработка мер по противодействию им.
Однако остается не изученным реальное отношение населения к цифровым практикам общественно-политического участия и коммуникации с властью. Неизвестно, считает ли общество цифровую коммуникацию легитимной и доверяет ли современным технологиям в вопросах политического выбора. Уже в настоящее время требуются комплексные социологические исследования по проблематике цифровизации системы публичного управления и использования цифровых практик в общественно-политической сфере. Без должного научного обоснования цифровизация может окончательно сформироваться как стихийный и неуправляемый процесс, со всеми присущими ему рисками и многочисленными угрозами.
Методика и методология. Принимая во внимание концепцию П. Хоровица, согласно которой цифровизация представляет собой процесс переноса данных в цифровую дискретную (электронную) форму, в рамках настоящего исследования мы используем более широкое понимание данного термина [Хоровиц, Хилл 1993]. Ключевым аспектом в данном случае является социальный характер данного феномена, который подчеркивается, например, в работах Харрингтона, приписывающего цифровизации постепенный перенос различных сфер общественных отношений в цифровую форму [Harrington 1989].
По нашему мнению, цифровизация представляет собой процесс всемирной социальной, экономической, политической и культурной интеграции общества в цифровое пространство, когда цифровые практики становятся общеупотребительными, а наличие минимальных навыков использования цифровых технологий – необходимым для сохранения диспозиций в социальной структуре современного общества.
В этой связи большое значение для настоящего исследования имеет также концепция цифрового разрыва, определяющая, что распространение цифровых технологий обусловливает как увеличение существующих социальных неравенств, так и возникновение новых [Castells 2012; Кастельс, Химманен 2002: 15].
Эмпирической основой исследования послужили результаты авторского социологического опроса «Модификация социального неравенства в условиях дигитализации российского общества», организованного в январе– феврале 2020 г. Исследование включало массовый анкетный опрос населения Белгородской обл. ( N = 500). Использовалась квотная половозрастная выборка, погрешность составила не более 2,5%.
Результаты исследования. Одной из ключевых целей исследования являлось определение активности использования населением цифровых практик при общественно-политическом участии. Роль цифровых технологий и сети Интернет в политическом процессе только возрастает [Шилов 2018: 30]. Помимо уже легитимного и формально закрепленного дистанционного электронного голосования1, активно развиваются стихийные неинституци-онализированные цифровые практики общественно-политического участия: интернет-митинги, форумы, чаты и онлайн-каналы с обсуждением актуальной политической информации и координацией протестных акций, интернет-петиции и др.
Вместе с тем, как показали результаты исследования, цифровые технологии и Интернет для общественно-политического участия в жизни страны используют всего 15,4% респондентов. Более чем 2/3 опрошенных (69,8%) цифровые технологии для этих целей не используют (см. табл. 1).
Цифровые технологии и сеть Интернет, по мнению респондентов, обусловили увеличение возможностей для участия в общественно-политической жизни страны. Так, 49% опрошенных считают, что активное развитие цифровых технологий в той или иной степени увеличило возможности. 26,2% считают, что верно нечто среднее. И лишь 24,8% считают, что возможности, наоборот, уменьшились (см. табл. 2.).
Учитывая взаимосвязь ответов на два предыдущих вопроса, можно предположить, что существенная часть населения осведомлены о существовании цифровых практик общественно-политического участия, но пока их исполь зует лишь м алая часть населения.
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Используете ли Вы цифровые технологии и Интернет для общественно-политического участия в жизни страны?»
|
№ |
Вариант ответа |
Чел. |
% |
|
1 |
Да |
77 |
15,40 |
|
2 |
Нет |
349 |
69,80 |
|
3 |
Затрудняюсь ответить |
74 |
14,80 |
|
Итого |
500 |
100,00 |
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, обусловило ли активное развитие цифровых технологий увеличение возможностей для общественнополитического участия в жизни страны?»
|
№ |
Вариант ответа |
Чел. |
% |
|
1 |
Однозначно да |
41 |
8,20 |
|
2 |
Скорее да, чем нет |
204 |
40,80 |
|
3 |
Верно нечто среднее |
131 |
26,20 |
|
4 |
Скорее нет, чем да |
43 |
8,60 |
|
5 |
Однозначно нет |
81 |
16,20 |
|
6 |
Затрудняюсь ответить |
0 |
0,00 |
|
Итого |
500 |
100,00 |
Аналогичная ситуации складывается в отношении населения к цифровым технологиям коммуникации с органами власти. Считают, что на доступ человека к власти оказывает влияние его уровень владения цифровыми технологиями 44,8% респондентов, а 20,4% с этим в той или иной степени не согласны (см. табл. 3).
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что на доступ человека к власти оказывает влияние уровень его навыков и возможностей использования электронных устройств и цифровых технологий?»
|
№ |
Вариант ответа |
Чел. |
% |
|
1 |
Однозначно да |
52 |
10,40 |
|
2 |
Скорее да, чем нет |
172 |
34,40 |
|
3 |
Верно нечто среднее |
94 |
18,80 |
|
4 |
Скорее нет, чем да |
71 |
14,20 |
|
5 |
Однозначно нет |
31 |
6,20 |
|
6 |
Затрудняюсь ответить |
80 |
16,00 |
|
Итого |
500 |
100,00 |
Тем не менее респонденты считают, что коммуникация с властью посредством цифровых технологий имеет определенные преимущества. 30,2% отме-

тили, что власть в случае электронной коммуникации быстрее реагирует на обращения; 22,2% подчеркнули, что цифровая коммуникация проще в сравнении с традиционными формами; а 19,2% считают, что в случае электронного взаимодействия они получают более доступную форму ответа (см. табл. 4.).
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Какие преимущества имеет коммуникация с властью посредством цифровых технологий перед традиционными формами?»
|
№ |
Вариант ответа |
Чел. |
% |
|
1 |
Проще в сравнении с традиционными формами коммуникации |
111 |
22,20 |
|
2 |
Власть быстрее реагирует |
151 |
30,20 |
|
3 |
Более высокая эффективность |
51 |
10,20 |
|
4 |
Более доступная форма ответа |
96 |
19,20 |
|
5 |
Другое |
0 |
0,00 |
|
6 |
Затрудняюсь ответить |
91 |
18,20 |
|
Итого |
500 |
100,00 |
Таким образом, результаты исследования еще раз подтверждают возрастание роли цифровых технологий в общественно-политическом участии и коммуникации с властью. У большей части населения, безусловно, сформировалось представление, что коммуникация такого рода является возможной, хотя и лишь малая доля респондентов используют такие практики в повседневности.
В данном случае важным вопросом является уровень доверия цифровых технологиям и их применению в таких важных сферах человеческих отношений. Пока данные практики носят разобщенный и стихийный характер, отсутствуют четко сформулированные и закрепленные социальные нормы их применения, население склоняется скорее к традиционным формам взаимодействия.
Обращаясь к феномену цифрового неравенства, когда часть населения не обладает необходимыми навыками или возможностями применения цифровых технологий и извлечения преимуществ из их использования, стоит отметить, что существенная доля респондентов еще не сформировали объективные представления о новых критериях дифференциации общества.
Так, например, респондентам был задан вопрос касательно того, считают ли они справедливыми и/или законными некоторые следствия владения цифровыми технологиями, в частности неравенство в отношении общественнополитического участия и доступа к власти.
Лишь 23,4% считают возникшее неравенство в отношении общественнополитического участия законным, а 27,2% – справедливым. Неравенство в отношении доступа к власти оценивают немногим лучше. Так, 30,4% респондентов считают его законным, и лишь 25,2% – справедливым. При этом в обоих случаях около 60% опрошенных не смогли дать однозначные ответы на данные вопросы.
Результаты социологического исследования позволяют сделать вывод, что население уже признало цифровые технологии в общественно-политическом участии и доступе к власти, а также присущие им неравенства на уровне конвенционального согласия. Но лишь малая часть признает их легитимными и справедливыми. Причиной тому может являться низкий уровень институционализации цифрового взаимодействия, разрозненное применение цифровых практик, отсутствие соответствующих норм и правил.
Обсуждение результатов. Дальнейшее внедрение цифровых технологий в процессы общественно-политического участия и коммуникации с властью должно сопровождаться переходом от конвенционального признания самого существования таких практик к их постепенной легитимации и институционализации.
Однако попытки государственного регулирования данной сферы сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, деятельность власти зачастую не отвечает требованиям современного динамично развивающегося цифрового общества: бюрократизированность и формализованность государственных мер обусловливают их неэффективность и несвоевременность. Во-вторых, слабое понимание принципов функционирования цифрового пространства и высокий уровень самоорганизованности сетевого сообщества приводят к тому, что ответной реакцией на меры государственного регулирования является усложнение цифровых практик в обход создаваемых ограничений.
Дискуссии о свободе, доминировании и вмешательстве сопровождаются надеждой на бесконфликтную стратегию взаимодействия цифрового управления и отношений между гражданами, базирующуюся на сотрудничестве, прозрачности и честности, которые основаны на алгоритмах цифровых технологий. Многие убеждены, что алгоритмическое управление устранит опасность неэффективности и недоверия, возложив часть ответственности на безличные процедуры [Сморгунов 2019: 63].
В данном случае представляется целесообразным обратиться к концепции общественного договора, которая, зародившись еще в XVII в., в современных условиях была существенно доработана [Ролз 2010; Southwood 2010; Хабермас 2001]. По мнению современных авторов, «общественный договор определяет базовые границы и характеристики социального действия и фундаментальные принципы согласования противоречивых, конфликтных интересов» [Кузьмин 2014: 94].
Модификация существующего общественного договора между уже цифровым обществом и публичной властью или инициация процесса принятия нового позволит закрепить четкие рамки и нормы применения цифровых практик, определить границы дозволенного и, наконец, повысить эффективность системы государственного управления путем раскрытия потенциала цифровизации.
Это позволит избежать множественных рисков и угроз стихийной цифровизации, когда, например, часть населения будет лишена преимуществ электронного взаимодействия ввиду отсутствия доверия к нелегитимным цифровым практикам общественно-политического участия и коммуникации с властью. При этом стохастичность и непредсказуемость цифровизации позволяет говорить о возможности будущих, но еще не проявившихся угроз, тогда как модифицированный общественный договор может стать одним из способов предупреждения возможных рисков.
Заключение. Публичная власть не в праве игнорировать скоротечные и всеобъемлющие процессы цифровизации общества, которые постепенно становятся неотъемлемой частью практически всех социальных институтов. Тотальная формализация процесса цифровой коммуникации между органами власти и населением уже демонстрирует свою неэффективность ввиду бюрократизации процесса определения и закрепления норм, с одной стороны, и стихийностью самой цифровизации – с другой.
В этой связи необходимо обратиться к более масштабным социальным концепциям, одной из которых может стать теория общественного договора, который в условиях формирования цифрового общества критически нуждается в обновлении и актуализации. Необходимо определить границы и правила взаимодействия между цифровым обществом и публичной властью, закрепить ценностные ориентиры и легитимировать новые формы коммуникации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-31535.
Список литературы Отношение населения к цифровым технологиям общественно-политического участия и взаимодействия с властью
- Кастельс М., Химманен П. 2002. Информационное общество и государство благосостояния: финская модель. М.: Логос. 224 c.
- Кузьмин Г.С. 2014. Общественный договор как фундаментальный политический механизм регулирования конфликтов. – Власть. № 7. С. 92-96.
- Ролз Д. 2010. Теория справедливости. М.: URSS. 534 с.
- Сморгунов Л.В. 2019. Институционализация управляемости и проблема контроля в пространстве цифровых коммуникаций. – Южно-Российский журнал социальных наук. № 3. С. 62-75.
- Хабермас Ю. 2001. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб: Наука. 417 с.
- Хоровиц П., Хилл У. 1993. Искусство схемотехники: в 3 т. М.: Мир. Т. 2. 371 с.
- Шилов В.В. 2018. Роль Интернета в политической сфере социума. Часть 1. – Власть. Т. 26. № 9. С. 29-34.
- Castells M. 2012. Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Massachusetts: Polity Press. 200 p.
- Harrington J.G. 1989. School/University/Business Partnership: Collaboration in a Tripartite Partnership: PhD thesis. N.Y. 139 p.
- Southwood N. 2010. Contractualism and the Foundations of Morality. Oxford: Oxford University Press. 216 p.