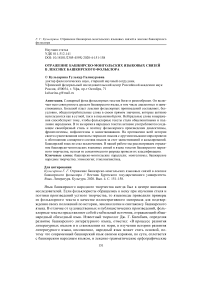Отражение башкирско-монгольских языковых связей в лексике башкирского фольклора
Автор: Кульсарина Гульнур Галинуровна
Рубрика: Языковые контакты монгольских народов и их отражение в лексике и грамматике
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Словарный фонд фольклорных текстов богат и разнообразен. Он включает всю совокупность средств башкирского языка, в том числе диалектных и заимствованных. Большой пласт лексики фольклорных произведений составляют, безусловно, общеупотребительные слова в своем прямом значении, которые активно используются как в устной, так и в письменной речи. Нейтральные слова и выражения способствуют тому, чтобы фольклорные тексты стали общепонятными и подлинно народными. В то же время в народных текстах активно употребляются создающие своеобразный стиль и поэтику фольклорного произведения диалектизмы, фразеологизмы, мифологизмы и заимствовавания. На протяжении всей истории своего существования контакты тюркских языков с другими языками мира привели к обогощению словарного состава языков за счет заимствований и калькирований. Башкирский язык не стал исключением. В нашей работе мы рассматриваем отражение башкирско-монгольских языковых связей в языке текстов башкирского народного творчества, исходя из семантического разряда провели их классификацию
Башкирско-монгольские параллели, монголизмы, башкирское народное творчество, этимология, этнолингвистика
Короткий адрес: https://sciup.org/148316629
IDR: 148316629 | УДК: 811.512.141 | DOI: 10.18101/2305-459X-2020-4-151-158
Текст научной статьи Отражение башкирско-монгольских языковых связей в лексике башкирского фольклора
Кульсарина Г. Г. Отражение башкирско-монгольских языковых связей в лексике башкирского фольклора // Вестник Бурятского государственного университета. Язык. Литература. Культура. 2020. Вып. 4. С. 151‒158.
Язык башкирского народного творчества всегда был в центре внимания исследователей. Если фольклористы обращались к нему при изучении стиля и поэтики произведений устного творчества, то языковеды приводили примеры из фольклорного текста в качестве иллюстративного материала для подтверждения своих положений по истории, лексикологии и синтаксису башкирского языка. В отличие от художественных и публицистических произведений, фольклорные тексты представляют собой стабильный источник, отражающий общенародный обиходный язык. Известный тюрколог Дж. Г. Киекбаев, определяя развитие башкирского литературного языка, отметил: «В процессе развития литературных языков и в становлении их норм, в изучении истории развития литературного языка, несомненно, народный язык может стать основой, потому что современный башкирский язык своими корнями, по сути, сплетается с башкирским народным языком, и лексико-грамматические орфографические нормы литературного языка заложены в народном языке» [10, c. 20]. Наибольшую актуальность в современной науке приобретает изучение лексикосемантических, морфологических, стилистических и поэтических особенностей текстов фольклора, предполагающее не только выявление стиля народных текстов, но и определение факторов, обусловливающих данную специфику, в частности базовых стилевых черт фольклорного текста. На формирование лексических особенностей фольклорного текста большое влияние имел целый комплекс факторов, среди которых основные — это общественная роль фольклора, коллективный характер народного творчества, влияние коммуникативного акта в условиях естественной коммуникации, особенности фольклорной идейно-эстетической макросферы, характеризующейся специфическим способом эстетического освоения действительности, основным критерием которого является соответствие традиционной культурной норме, идеалу. «Словарный фонд башкирских фольклорных текстов богат и разнообразен. Он включает всю совокупность средств башкирского языка, в том числе диалектных и заимствованных. Большой пласт лексики фольклорных произведений составляют, безусловно, общеупотребительные слова в своем прямом значении, которые активно используются как в устной, так и в письменной речи. Нейтральные слова и выражения способствуют тому, чтобы фольклорные тексты стали общепонятными и подлинно народными» [12, с. 244]. В то же время в народных текстах активно употребляются создающие своеобразный стиль и поэтику фольклорного произведения заимствовавания, на изучение которых в данной статье делается основной акцент.
О фольклорной семантике писали многие ученые. По справедливому утверждению А. Т. Хроленко, «на характер языка фольклора влияют многие факторы, в том числе и факторы многоязычности населения той или иной территории» [14, с. 87]. На протяжении всей истории своего существования контакты тюркских языков с другими языками мира привели к обогащению словарного состава языков за счет заимствований и калькирований. Слова, общие для башкирского, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, впервые были изучены профессором Дж. Г. Киекбаевым в научном труде «Основы исторической грамматики урало-алтайских языков» [9, с. 10]. В монографии «Историческое развитие лексики башкирского языка» профессор Э. Ф. Ишбердин отмечает: «Предварительное сравнение общих для тюркских и монгольских языков лексических единиц показывает, что из тюркских языков башкирский, татарский, казахский, киргизский, каракалпакский и в своеобразной форме чувашский стоят обособленно по степени усвоения монгольских слов. Кроме общих для всех тюркских языков монголизмов, в указанных языках имеются явные заимствования, видимо, более поздние, из монгольского и калмыкского языков» [8, с. 33]. О том, что в этногенетическом процессе башкир активное участие принимали и монгольские племена, свидетельствуют исследования диалектолога Н. Х. Максютовой. «Нет сомнений, что этноним сальют монгольского происхождения», — пишет ученый. Сохранившиеся названия родовых подразделений племени сальют, орагый, орхан, мэркэт, шумыр, шу-мых генетически возводятся к названиям монгольских племен и родов [13, с. 173]. В последние годы в башкирском языкознании появились работы А. Г. Вахитовой посвященные башкирско-монгольским языковым связям на материале лексики [7].
Анализируя общие лексические единицы в башкирском и монгольском языках на примере текстов башкирского народного творчества, мы выделили несколько критериев, способствующих выявлению заимствований. Основным моментом является совпадение звуковой оболочки и семантики соответствующего башкирского слова с монгольским при условии отсутствия этого слова в древнетюркском, при ограниченном его распространении в современных тюркских языках, системе башкирских говоров и широком бытовании в монгольских языках. По итогам нашего исследования мы выделили следующий список башкирских и монгольских общих лексических единиц, встречающихся в текстах башкирского народного творчества, — это слова, обозначающие явления природы, метеорологические явления, гидрографические и орографические явления, части тела человека, животных, растений и т. д.
Первая лексико-семантическая группа — названия, обозначающие явления природы . Например, башкирское «боҙ» — монгольское «мес(ен)» (лед), башкирское «монар» (мгла, дымка, иней) — монгольское слово «манан» (туман), башкирское «көрт» — монгольское «хер» (сугроб), башкирское «ҡы-рау» — монгольское «хяруу» (иней), башкирское «буран» (буран, метель, буря) — монгольское «бороо(н)» (дождь), башкирское «ҡырпаҡ» (ҡар) — монгольское «хармаг» (первый снег, пороша). Примеры из башкирских фольклорных текстов: Йәш хәтер ташҡа яҙған, ҡарт хәтер боҙға яҙған (букв . ‘Молодая память на камне высечена, старая — на льду’) [15, с. 351] ; Шар ҡар, боҙ һымаҡ һыуыҡ була. Шуға күрә лә уға «ҡарбоҙ» тип исем бирәләр. (букв. ‘Шар был холодным, как снег и лед. Поэтому его назвали «ҡарбоҙ»’ (ҡар (снег) + боҙ (лед) [6, с. 321]; Ҡырпаҡ ҡар төшөүгә эҙен юғалта (букв . К снежной пороше теряет след) [1, с. 210]; Матур сәскәне ҡырау тиҙ ала (букв. ‘Красивые цветы заморозкам первыми поддаются’) [15, с. 356].
Во вторую группу собрали названия гидрографических и орографических явлений. Например, башкирское слово «дала» — монгольское слово «тал(а)» (степь, поле), башкирское «туғай» (луг) — монгольское «токой» (локоть, часть руки от локтя до кисти; излучина, изгиб, лука (реки), башкирское «уба» (холм, курган) — монгольское «овоо(н)» (груда, куча, курган), «обон» (возвышенность, насыпь), башкирское «диңгеҙ» — монгольское «тэнгэс/тан-гис» (море), башкирское «тулҡын» — монгольское «долгио(н)» (волна, вал), башкирское «үҙəн» (русло (реки), долина) — монгольское «уса(н)» (вода, река), башкирское «аҡлан» (поляна) — монгольское «аглаг» (безлюдное место, пустынная местность), башкирское «ер» — монгольское «шорой» (земля, почва), башкирское «ҡая» — монгольское «хад(ан)» (скала, утес), башкирское «тау» (гора) — монгольское «таг» (плоская вершина горы, плато) и др. Общие для тюркских и монгольских языков лексические единицы: башкирское «йылға» (река) — монгольское «жалга» (овраг, сухое русло), башкирское «тупраҡ» (почва, земля) — монгольское «тоброг/товрог» (пыль, прах). Примеры: Донъя яратылғас та, кешеләр төрлө ерҙә ил ҡороп, йәшәй башлағандар (букв. ‘Когда был создан мир, все люди в разных местах земли начали жить, построив свои государства’) [4, с. 142]; Тау ҡаяһыҙ булмай, бөркөт ояһыҙ булмай (букв. ‘Нет горы без камня, нет орла без гнезда’) [15, с. 169]; Ир күрке — мал, үҙән күрке — тал (букв. ‘Долину украшает ива, а мужчину — его скот)’; Тилегә диңгеҙ тубыҡтан (букв. Дураку море по колено) [15, с. 371]; Үлемһеҙ донъя юҡ, үтелгеһеҙ йылға юҡ (букв. ‘Без смерти нет мира, нет реки, которую нельзя переплыть’) [15, с. 521]; Яҡшылыҡ ҡылып диңгеҙгә ташлаһаң да ҡайтыр (букв. ‘Доброе дело, даже брошенное в море, вернется’) [15, с. 280]; Ерле халыҡ элгәре ул тауға менергә ҡурҡа (хәүефләнә) торғайны: томан эсенән кеше күҙенә ниндәйҙер имәнес йән эйәләре күренер булған, ти. Бигерәктә ундағы Сарыҡташ тигән ҡая кешеләрҙе ҡурҡыуға һалған (букв. ‘Раньше местные жители боялись подниматься на эту гору: там, говорят, людям мерещилось что-то страшное. Страх на людей особенно наводила скала Сарыкташ’) [6, с. 71].
В следующую группу мы отнесли лексические параллели, относящиеся к небесной сфере, которые этимологизируются по языковым данным обоих языков. Например, башкирское слово «күк» (небо) — монгольское «хех / хухэ» (синий, голубой, зеленый, серый; смуглый, темный (о цвете лица), башкирское «тəңре» (небо, всевышний) — монгольское «тэнгэр» (небо, небеса, гром, всевышний, бог) и др. Примеры из текстов народного творчества: Яҡшы менән яман араһы — ер менән күк араһы (букв. ‘Между хорошим и плохим — расстояние от неба до земли’) [15, с. 651]; Бер күктә ике ай булмай, бер күңелдә ике мөхәббәт булмай (букв . ‘В одном небе не бывает две луны, одна душа не вмещает две любви’) [15, с. 438]; Тәңре уға бер уғыл биргән (букв . ‘Всевышний дал ему одного сына’) [5, с. 207] .
В четвертой группе мы собрали лексику, которая относится к названиям отрезков времени. Например, башкирское слово «саҡ» (время, пора) — монгольское «цаг» (период, время, срок); башкирское «иртə» — монгольское «эрт(эн)» (рано, ранний, раньше, утром), башкирское «йыл» — монгольское «жил» (год), башкирское «кис» (вечер) — монгольское «кечи» (раньше, давно), башкирское «төш» (полуденное время) — монгольское «дули» (середина (дня, ночи)), башкирское «төн» (ночь) — монгольское «туне» (темный). Приведем примеры из башкирского фольклора: Иртә торғандың ғүмере оҙон (букв . ’Кто рано встает, тот долго живет’) [15, с. 257]; Яҙҙың бер көнө йылды туйҙыра (букв . ‘Один день весны год кормит’) [15, с. 643]; Уны кис менән сығып һыҙғыртһаң, пәрейҙәр йыйылалар (букв . ‘Если выйдешь вечером и свистнешь, соберутся пэри’) [5, с. 130]; Кеше күңеле — ҡараңғы төн (букв . ‘Душа человека — темная ночь’) [15, с. 440]; Шунан һуң ул, кистәрҙән бер кис балаларын сыуал янына йыйнап алып, былай тип һөйләгән... (букв. ‘После этого в один из вечеров он собрал своих детей возле чувала и вот что сказал...’) [6, с. 395]; Төн уртаҡайында йүгереп сыҡтым, / Туғанай, йөрәккәйгенәм, / Келәт бауы сылтырағанға (букв. ‘Выбежал в полночь, Туганай, душа моя, услышав звон амбарной веревки’) [2, с. 237]; Хан иртә менән вәзирен ебәреп, Ҡараса батырҙарҙы сәйгә саҡыра (букв. ‘Хан рано с утра отправляет визиря пригласить Караса-батыра с друзьями на чай’) [5, с. 131] .
Пятая группа — это названия, относящиеся к анатомии человека и животных: башкирское слово «танау» (нос) — монгольское «танага» (носовая перегородка), башкирское «ҡабырға» — монгольское «хабирга» (ребро, бок), башкирское «һаҡал» — монгольское «сахал» (борода, усы), башкирское «бүтəгə» — монгольское «бетеге» (зоб птицы), башкирское «ҡауырһын» — монгольское «гуурс(ан)» (перо птичье), башкирское «маңлай» (лоб) — монгольское «магнай/манлай» (лоб, передовой, лучший, глава, вождь, головной), башкирское «ҡойҡа» — монгольское «хуйх» (опаленная кожа), башкирское «арҡа» (спина, хребет) — монгольское «ар(а)» (спина, зад, задняя спина), башкирское «белəк» (предплечье) — монгольское «билэ» (запястье), башкирское «бил» — монгольское «бэлхуус» (талия), башкирское «боғаҙ» (горло; глотка) — монгольское «богорла» (перерезать горло, задушить» (тюркское «богаҙ/богуз» (горло, глотка), башкирское «быуын» (сустав) — монгольское «бугуй» (предплечье), башкирское «йөҙ» (лицо, лик) — монгольское «зус(эн)» (вид, внешность) / монгольское «нуур» (лицо), башкирское «йөрəк» — монгольское «зурх(эн)» (сердце), башкирское «ҡолаҡ» (ухо) — монгольское «хулхи» (внутреннее ухо, ушная сера), башкирское «аяҡ» (нога) — монгольское «адаг» (конец, устье), башкирское «ҡыл» (конский волос, щетина, шерсть) — монгольское «хялгас(ан)» (конский волос), башкирское «мөгөҙ» (рог) — монгольское «мегеес(ен)» (хрящ), башкирское «тояҡ» — монгольское «туур/туурай» (копыто) и др. Примеры: Маңлайына яҙған хаҡ яҙмыштан / Ҡасып ҡына ҡотолоп булмайҙыр (букв. ‘От судьбы, что написана на лбу, не убежишь’) [2, с. 207]; Yдe бер карыш — hакалы мец карыш (букв. ‘Сам ростом в пядь, а борода в тысячу пядей’ [1, с. 259]; Карап торhалар, бына бер саҡ, ер тырнап үкереп, хандың ете йәшәр үгеҙе килеп сыға. Күҙен ҡан баҫҡан, мөгөҙө менән ерҙе тишә, шул ҡәҙәр ажарлана, күрһәң, ҡотоң осорлоҡ! Караса батыр килэ лэ, тегенец ике мегеденэн тотоп алып, ейрелтеп-ейрелтеп сейеп ебэрэ, Yгeд hарай аша дыцк итеп барып тешэ (букв. ‘И вот однажды они увидели, как с диким ревом выбежал семилетний бык хана и землю копытами роет. Глаза у него залиты кровью, рогами землю пашет, сильно взбешен, увидишь — испугаешься! Подошел Караса-батыр и, взяв его за рога, два раза покрутил и подбросил вверх, бык пролетел через дворец и с грохотом упал’) [5, с. 302]; Талдан Fына нескэ билдэрецде / Талдырып-талдырып һөйгән дә йәр ҡайҙа (букв. ‘Где возлюбленный твой, который бы любил твою талию, которая тоньше ивы’) [2, с. 56]; Урал батыр тау башында одак торманы, ти: кegэheнэн теге ес бертек кылды алып етеуе булды — Акбудаттыц каршыFа тып итеп килеп бадыуы булды, ти (букв . ‘Урал-батыр долго не стоял на этой горе: как только он сжег три конских волоса, Акбузат прискакал к нему’) [5, с. 167]; Борон-борон борондан / Кеше мадар булмаFан,/ Килеп аяк баgмаFан, / Ул тирэлэ коро ер / БарлыFын hис бер кем белмэгэн, / Дурт яFын дицгед ураткан / БулFан, ти, бер урын (букв. ‘В древнюю пору, давным-давно, было, говорят, место одно, куда никто не ступал ногой. И на целом свете никто не знал, не ведал о суше той. С четырех сторон обступала это место морская вода’ [3, с. 24]; Йед картайhа ла, йерэк картаймаhын (букв . ‘Если даже лицо стареет, пусть сердце не стареет’) [15, с. 260]; Ашағанда
ҡолағың һелкенһен, эшләгәндә йөрәгең елкенһен (букв . ‘Когда ешь, пусть уши шевелятся; когда работаешь, пусть сердце рвется’) [15, с. 89]; Ауыр эшкә беләк бар, ҡыйыу эшкә йөрәк бар (букв . ‘Для тяжелой работы есть руки, для опасной (рискованной) работы есть сердце’) [15, с. 178]; Ата үлеү — арҡа һыныу, инә үлеү — бәғер итең һулыу (букв . ‘Смерть отца ломает спину, смерть матери убивает сердце’) [15, с. 202].
Следующая лексическая группа — это названия частей растений : башкирское слово «ағас» (дерево) — монгольское «агч» (клен), башкирское «ботаҡ» (ветвь) — монгольское «бута» (кустарник, заросли), «бут» (куст, заросль), башкирское «емеш» (плод, фрукт) — монгольское «жиме» (плод, плоды, фрукты), башкирское «ҡыяҡ» (лист злаковых и травянистых растений) — монгольское «хияг» (вострец, пырей), башкирское «орлоҡ» — монгольское «ур» (семя), башкирское «сəскə» — монгольское «цэцэг» (цветок, соцветие), башкирское «үлəн» (трава) — монгольское «епен(г)» (осока), башкирское «һабаҡ» (стебель, ботва) — монгольское «саваа» (палка, прут), башкирское «борсаҡ» — монгольское «бурцаг» (горох, горошина), башкирское «тары» (просо) — монгольское «тариа(н)» (хлеб, зерно, урожай) и др. Примеры: Ҙур ағастың күләгәһе лә киң (букв . ’У большого дерева и тень большая’) [15, с. 49]; Емеште аша, ботағын һындырма (букв. ‘Плоды кушай, но ветку не ломай’) [15, с. 197] ; Сәскәһе ҡойолғас емеше булыр (букв. ‘Как выпадут цветы, появятся плоды’) [15, с. 197] ; Орлоғона күрә емеше (букв. ‘Каково семя, таков и плод’) [15, с. 197] ; Балтырғаны беләктәй, / Һарнаһы ҡурай еләктәй, / Йылғалары көмөштәй, / Борсағы тәмле емештәй, / Уралтау, Уралтау! (букв. ‘Где борщевик (толщиной) в руку, где саранка, как малина, где реки, как серебро, где горох вкусен, как ягоды, Уралтау, Уралтау!’) [3, с. 244]; Бер тарынан бутҡа булмай (букв . ‘Из одного зернышка каши не сваришь’) [15, с. 77]; Көнбағыш һабағы менән һатылмай (букв. ‘Подсолнух со стеблем не продают’) [15, с. 571] , Ағас та үҙ нәҫелен үҙ тирәһенә йыя (букв. ‘И дерево собирает свой род вокруг себя’) [4, с. 87] .
Таким образом, многосторонние контакты башкирского народа с другими наложили отпечаток и на язык фольклора. Язык и стиль произведений башкирского народного творчества свидетельствуют о богатстве и разноообразии его лексического фонда, включающего в себя всю совокупность средств башкирского языка, в том числе и заимствованных. В данной работе исследуя лексический состав башкирского фольклора, мы внимание уделяли отражению башкирско-монгольских языковых связей в текстах народного творчества. История языка тесно связана с историей народа — носителя данного языка. Проблема сравнительно-исторического изучения лексики, общей для башкирского и монгольского языков, заслуживает особого внимания и требует дальнейшего развития.
Список литературы Отражение башкирско-монгольских языковых связей в лексике башкирского фольклора
- Надршина Ф. А. Башҡорт халыҡ ижады. IX том. Йомаҡтар. Өфө; Китап, 2007. 416 б. = Башкирское народное творчество / гл. ред. Ф. Г. Хисамитдинова. IX том. Загадки. Уфа; Китап, 2007. 416 с.
- Башҡорт халыҡ ижады. Бәйеттәр. Йырҙар. Таҡмаҡтар. Өфө. Башҡортостан китап нәшриәте, 1981. 392 б. = Башкирское народное творчество. Песни, частушки / сост. М. М. Сагитов; гл. ред. К. Мэргэн.
- Башҡорт халыҡ ижады. Эпос. III китап. Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1982. 344 б. = Башкирское народное творчество. Эпос / гл. ред. Г. Б. Хусаинов.
- Мингажетдинов М. Х. Башҡорт халыҡ ижады. Әкиәттәр. II китап. Тылсымлы героик әкиәттәр. Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1976. 344 б. = Башкирское народное творчество. Волшебные героические сказки
- Башҡорт халыҡ ижады. Әкиәттәр. III китап. Батырҙар тураһындағы әкиәттәр. Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1978. 352 б. = Башкирское народное творчество. Сказки о богатырях / гл. ред. Г. Б. Хусаинов.
- Надршина Ф. А. Башҡорт халыҡ риүәйәттәре һәм легендалары. Автор төҙөүсе Ф. А. Нәҙершина. Өфө: Башҡортостан “Китап” нәшриәте, 2001. 468б. = Башкирское народное творчество. Легенды и предания.
- Вахитова А. Г. Башкирско-монгольские языковые связи (на материале лексики). Уфа: Гилем, 2009. 216 с.
- Ишбердин Э.Ф. Историческое развитие лексики башкирского языка М.: Наука, 1986. 149 с.
- Киекбаев Дж. Г. Введение в урало-алтайское языкознание. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1972. 151 с.
- Киекбаев Дж. Г. Лексика и фразеология современного башкирского языка. Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1966. 275 с.
- Киекбаев Дж. Г. Основы исторической грамматики урало-алтайских языков. Уфа: Китап, 1996. 354 с.
- Кульсарина Г. Г. Национальная языковая картина мира в текстах башкирского фольклора: монография. Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. 356 с.
- Максютова Н. Х. Восточной диалект башкирского языка. М.: Наука, 1976. 292 с.
- Хроленко А. Т. Семантика фольклорного слова. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. 140 с.
- Әхтәмов М. Х. Башҡорт халыҡ мәҡәлдәре һәм әйтемдәре һүҙлеге. Өфө: Китап, 2008. 774 б.