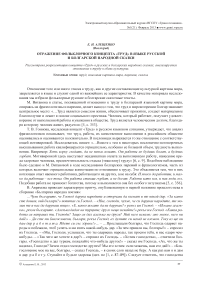Отражение фольклорного концепта «труд» в языке русской и болгарской народной сказки
Автор: Алещенко Елена Ивановна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрена репрезентация концепта «Труд» в русских и болгарских народных сказках, анализируется отношение к труду в обеих культурах.
Труд, языковая картина мира, паремия, сказка
Короткий адрес: https://sciup.org/14821871
IDR: 14821871
Текст научной статьи Отражение фольклорного концепта «труд» в языке русской и болгарской народной сказки
Отношение того или иного этноса к труду, как и другие составляющие культурной картины мира, закрепляется в языке и служит одной из важнейших ее характеристик. В качестве материала исследования мы избрали фольклорные русские и болгарские сказочные тексты.
М. Витанова в статье, посвященной отношению к труду в болгарской языковой картине мира, опираясь на фразеологизмы и паремии, делает вывод о том, что труд в мировоззрении болгар занимает центральное место: «…Труд является смыслом жизни, обеспечивает прожиток, создает материальное благополучие и лежит в основе социального престижа. Человек, который работает, получает удовлетворение от выполненной работы и уважения в обществе. Труд является человеческим долгом, благодаря которому человек живет, радуется» [5, с. 353].
Т. В. Гоннова, исследовав концепт «Труд» в русском языковом сознании, утверждает, что анализ фразеологизмов показывает, что труд, работа, их качественное выполнение в российском обществе оценивались и оцениваются положительно. В пословицах выражается то же отношение с соответствующей мотивировкой. Исследователь пишет: «…Вместе с тем в некоторых пословично-поговорочных высказываниях работа квалифицируется отрицательно, особенно ее большой объем, трудность выполнения. Например: Хоть корку глодать, да не пенья ломать. От работы не будешь богат, а будешь горбат. Мотивировкой здесь выступает неадекватная оплата за выполненную работу, нанесение вреда здоровью человека, предпочтительность отдыха (тяжелому) труду» [6, с. 9]. Подобное наблюдение было сделано и М. Витановой в ходе исследования болгарских паремий и фразеологизмов, часть из которых включает отрицательные коннотации по отношению к труду. Это объясняется тем, что в них воплощен опыт наемного работника, работающего на других, а не на себя: И много да работиш, и мал-ко да работиш – все това. От работа ставаш гърбат, а не богат. Работи като вол, и пак ходи гол . Подобная работа не приносит богатства, потому и выполняется она без особого энтузиазма [5, с. 356].
В. Аврамова приводит характерную притчу, опубликованную в первой половине прошлого века в сборнике «Българска народна поезия»:
…Чули българите, че Господ дарува народите и отърчали да вземат и те някой дар. «За какво сте дошли, вий българи?» попитал ги Господ. – «Ние, господи, чухме, че си дарувал народите, та молим те и нас да даруваш нещо». «Е, какво искате да ви дарувам?» рекъл им Господ. – «Искаме агалъ-ка», рекли българите. «Агалъка дадох на турците; друго нещо искайте!» рекъл им Господ. «Каква работа си направил ти, Господи? Защо си дал агалъка на други? Ний него искаме; ако може, него ни дай!» – Да сте ми благословени, българи, рекъл Господ, аз думите си назад не вземам. Току аз ще ви дам дар р а б о т а т а. Идете си със здраве!»… – …Прослышали болгары, что Господь одаряет народы и побежали, чтоб успеть и им взять какой-нибудь дар. «За чем пришли вы, болгары?» – спросил их Господь. – «Мы, Господи, услышали, что ты одаряешь народы, так просим тебя, и нас одари чем-нибудь». – «Так чего же хотите в дар?» – спросил их Господь. – «Хотим господства», – ответили болгары. «Господство я дал туркам, пожелайте что-нибудь другое!» – сказал им Господь. «Ах, что же ты наделал, Господи? Зачем отдал господство другим? Мы его хотим: если можешь, нам его дай!» – «Благословение мое на вас, болгары, – сказал Господь, – я своих слов назад не беру. А как раз вам я и дам в дар р а б о т у. Ступайте и будьте здоровы (цит. по [1, с. 87–89]). Следует отметить, что господства просили не только болгары, но и другие народы, однако Господь, не отступая от своих слов, вручил им другие дары. Примечательно, что болгары были благословлены именно работой. М. Витанова в своем исследовании отмечает, что анализ лексического значения слова работа позволяет «актуализировать имплицитную сему службы ‘исполнение чужой воли’, что показывает, как в сознании носителя языка сохраняется такое этимологическое значение слова работа, как «рабство, неволя» [5, с. 346].
Рассматривая концепт «Труд» в русской языковой картине мира, Г. В. Токарев утверждает, что оппозитивные связи названного концепта определяют трудовую деятельность как существенное, серьезное, приносящее средства к существованию, честное, благородное занятие. «Труд в наивной картине мира является проявлением добра, он помогает человеку избавиться от пороков: всяко ремесло честно, кроме воровства; худое ремесло лучше хорошего воровства; где труд, там и счастье и др . [10, с. 38].
И в болгарской, и в русской фольклорных языковых картинах мира труду противопоставляется лень. С точки зрения отношения к труду человек в русской народной сказке характеризуется как трудолюбивый или ленивый. При этом в сказках, героями которых являются три брата, ленивым оказывается младший – «дурак», а в сказках, повествующих о трех сестрах, наоборот, младшая – работящая, в отличие от своих старших сестер. Тем не менее и младший ленивый брат, и младшая трудолюбивая сестра в конце сказки «воцаряются».
Жили три брата, два-то умных, а третий дурак; умные братья поехали в нижние города товаров закупать и говорят дураку: «Ну смотри, дурак, слушай наших жен и почитай так, как родных матерей; мы тебе купим сапоги красные, и кафтан красный, и рубашку красную». Дурак сказал им: «Ладно, буду почитать». Они отдали дураку приказание, а сами поехали в нижние города; а дурак лег на печь и лежит. Невестки говорят ему: «Что же ты, дурак! Братья велели тебе нас почитать и за это хотели тебе по подарку привезть, а ты на печи лежишь, ничего не работаешь ; сходи хоть за водой» («Емеля-дурак», № 166); В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик со старухой. У них было три сына, третьего звали Иван-дурак. Первые двое женатые, а Иван-дурак холостой; два брата занимались делом, управляли домом, пахали и сеяли , третий же ничего не делал («Иван-дурак», № 430).
В болгарской народной сказке «Мързеливият» («Лентяй») герой настолько ленив, что его дети побирались. Несмотря на то, что соседи стыдили за это, он не спешил трудиться.
Имало един човек – много мързелив. По цели дни лежал под сенките, а децата му гладували и хо-дели от къща на къща да просят милостиня. Селяните, като минавали край него, спирали се и започ-вали да го хокат.
– Децата ти скитат немили-недраги, целият народ ее труди, а ти лежиш. Не те ли е срам? Дигай се и тръгвай на работа!
– Работа ли е – не ми я хвалете! – отвръщал мързеливият и се обръщал на другата страна («Мързеливият»).
Лентяю настолько надоедают упреки селян, что он идет к попу и просит похоронить его заживо, чтобы его перестали упрекать. И лишь находчивость одного трудолюбивого крестьянина, который переоделся чертом, пришел ночью на кладбище и, заявив, что лентяй попал в ад и теперь находится в его полном распоряжении, заставил его перетаскивать тяжелые камни с места на место, помогает герою сказки взяться за работу:
Отишъл си вкъщи запъхтян, грабнал една секира и се втурнал към гората. Почвал да сече дърва. Минал край него един селянин и го поздравил:
– Добър ден, брате! Какво ново-вехто носиш от оня свят?
– Остави се – отвърнал мързеливият, – не е за разказване: товарят те с камъни цяла нощ, а за награда почват да те бият, додето ти наместят кокалите! («Мързеливият»)
Подобных сюжетов в русском фольклоре не наблюдается, и похороны живого человека, в особенности по такой прозаической причине, как нежелание трудиться, русская сказка исключает.
Сказка учит, что в праздники и некоторые другие святые дни работать грешно: Седнала хубава Стойна да крои бяла риза за мъжа си и свилено елече за себе си тъкмо на Велики четвъртък. И как-то си крояла на чардака, видяла да се вият в небето три силни вихрушки. Приближили я, грабнали я и я отнесли на самовилските поляни. Не били три силни вихрушки, а три планински самовили («Наказание»); Почитал Бога, но понеже орял все чужди ниви, трябвало да изоре своята навръх Велик-ден. Мъчно му било, че хората влизат в църква, а той впряга биволите. Усещал, че ще стори грях, но нямало как да пропусне деня («Щастливият грях»). Однако есть различие между жизненно необходимой работой – пахотой на Пасху, поскольку все остальное время герой сказки работал на других людей, и работой, которая может быть выполнена и в другое время. Именно поэтому герой сказки «Щаст-ливият грях» Начо находит клад, чтобы иметь возможность пойти в церковь, а не грешить, работая на Пасху, а Стойну, героиню сказки «Наказание», уносят к себе в горы самодивы, чтобы она танцевала с ними хоро.
В русском фольклоре можно встретить отзвук языческих верований, также не позволяющих работать в определенные дни. В деревнях часто рассказывают былички о том, как Пятница наказывает женщин, нарушающих в этот день запреты на какую-либо работу, чаще всего запрет белить печь, расчесывать волосы, а особенно – прясть. Приходя к нарушительнице, Пятница в наказание колет ее веретенами или заставляет за одну ночь напрясть немыслимое количество пряжи:
Села женщина прясть накануне пятницы и пряла до полуночи. Вдруг подходит какая-то девушка под окно и спрашивает у этой женщины:
– Прядешь?
– Пряду, – та отвечает.
– Ну, на тебе сорок веретен и напряди их до рассвета, чтобы полны были, пока я вернусь из другого села. Как напрядешь, выкинь в окно.
Догадалась та женщина, кто это под окно подходил. Был у нее моток ниток. Схватила она его и стала наматывать на веретена. Намотает и в окно выкинет. Намотала все сорок веретен, встала из-за прялки, стала Богу молиться. На рассвете Пятница под окно приходит, видит – женщина Богу молится.
– Ну, догадлива ты. Быстро управилась. Иначе бы не прясть тебе больше никогда! – Схватила Пятница веретена, выброшенные женщиной, и разорвала их: – Смотри, как я эти веретена разорвала, так бы и тебе было, если бы дело не сделала. Ложись спать и больше не работай накануне пятницы.
Женщина стала просить у Пятницы прощенья:
– Прости ж ты меня, святая Пятница, не буду я больше работать в этот день и детям накажу [7, с. 23–24].
Испокон веков женщина была хранительницей домашнего очага, поэтому все хозяйственные заботы ложились на ее плечи. Быть хорошей женой значило быть хорошей хозяйкой. Лень для женщины считалась недопустимым пороком, что подтверждается многими источниками, например в «Домострое»: сама хозяйка ни в коем случае и никогда (разве что заболеет или по просьбе мужа) не должна сидеть без дела, чтобы и слуги, глядя на нее, желали трудиться. Муж ли придет, простая ли гостья – всегда должна сидеть за делом: за то ей «честь и слава, а мужу хвала». Такое положение дел нашло отражение и в сказке, т.к. женщина-лентяйка в ней всегда порицается и наказывается (в отличие от героя-мужчины, который хотя и предстает в некоторых сказках лентяем, тем не менее не подвергается осуждению и даже «воцаряется»).
В женские обязанности входят приготовление пищи и ведение хозяйства (стирка и чистка белья, прополка, дойка, кормление птицы, содержание дома в чистоте и т.д.): Пришла красная девица на про-свирнин двор и нанялась в работницы; дело у ней так и кипит под руками: и печку топит, и воду носит, и обед готовит («Перышко Финиста ясна сокола», № 234); А были у ее хозяйки три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя – Двуглазка, а меньшая – Триглазка; но они только и знали у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работа́ла, их обшивала, для них и пряла и ткала, а слова доброго никогда не слыхала («Крошечка-Хаврошечка», № 100).
Классическая болгарская народная сказка «Сливи за смет» повествует о хитром замысле одного крестьянина искать себе невестку, продавая сливы за сор. Стоит ли говорить о том, что в невесты своему сыну он взял ту, которая принесла меньше всего: ведь в доме не нашлось совсем, а горсточку дали соседи в награду за помощь в уборке:
– Нямаме повече, чичо, нямаме повече смет – приплакало момичето. – То и това, дето нося, не е от нашата къща, ами ходих да помагам на съседите да изметат, та ми дадоха това за помощта.
Селянинът, като чул това, много се зарадвал.
– Ха така, моме! Да си жива и здрава. Такава чистница като теб и толкова работна мома ще има да яде сливи, колкото си иска. Ти ще ми станеш снаха и ще бъдеш добра къщовница – рекъл сли-варят и я взел за снаха («Сливи за смет»). Таким образом, трудолюбие и хозйственность для болгар – важнейшие качества для жены. Это подтверждают сказки «Който не работи, не трябва да яде» («Кто не работает, тот не ест») и «Галената щерка» («Балованная дочка»). В них идет речь о молодых женах, которые, будучи избалованными в родительской семье, пытались отлынивать от работы и в доме мужа. Чтобы отучить их от этого, в ход пускали голод и палку. При этом во второй сказке мать продолжает стоять на своем и не велит дочери исполнять поручения мужа, а отец велит слушаться его. И зять в награду тещу угощает соломой, а тестя встречает с почтением:
– Оо, добре си ни дошъл, дядо, как си, какво правиш!
Сложили трапезата, яли, пили и се гощавали цяла нощ. На заранта, като си тръгнал дядото, зе-тят му метнал на гърба един кожух от червени лисици, изпратил го накрай селото и му целунал ръка («Галената щерка»). Таким образом, и от родителей требуется воспитать детей приученными к труду.
Помимо того, что сказка возвышает трудолюбивого героя и наказывает ленивого (например, сюжеты о родной дочери и падчерице), подчеркивается еще необходимость работать «с душой». В болгарской народной сказке «Златното момиче» («Золотая девочка») оставленная в лесу на погибель дочь старика попадает к колдунье, которая, уходя, велит ей работать по дому, а также ухаживать за ее ящерками и змейками: Момичето попарило трички, оставило ги да изстинат и на-хранило змиите и гущерите. На вратлето си носело герданче от мъниста, взело, че го разнизало и вързало на всяка гадинка по едно герданче («Златното момиче»). Девочка не только накормила их, но и каждой надела на шейку по монетке от своего мониста. Разумеется, она получает награду, а когда к старушке отправляется дочка мачехи, она дает выход своей брезгливости и даже кормит змеек и ящериц неостывшей кашей, отчего они обжигаются: Момичето попарило триците, но не ги почакало да изстинат, ами тутакси ги дало на змиите и гущерите да ядат и те се изпогорили всичките («Златното момиче»).
Подобный взгляд на женский труд отражается и в русской сказке: Баба-яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить кота и ругать, зачем не выцарапал девочке глаза. «Я тебе сколько служу, – говорит кот, – ты мне косточки не дала, а она мне ветчинки дала». Баба-яга накинулась на собак, на ворота, на березку и на работницу, давай всех ругать и колотить. Собаки говорят ей: «Мы тебе сколько служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлебца дала». Ворота говорят: «Мы тебе сколько служим, ты нам водицы под пяточки не подлила, а она нам маслица подлила». Березка говорит: «Я тебе сколько служу, ты меня ниточкой не перевязала, она меня ленточкой перевязала». Работница говорит: «Я тебе сколько служу, ты мне тряпочки не подарила, а она мне платочек подарила» («Баба-Яга», № 103).
В сказке – как русской, так и болгарской – признается необходимость труда, несмотря на то, что он часто тяжел, а порой и непосилен. Труд и работа оцениваются в целом положительно, трудолюбие считается ценной чертой характера (особенно для женщины), в то время как лень, безделье, наоборот, имеют отрицательную оценку (кроме тех случаев, когда в сказке находит отраже- ние мотив «веры в чудо»: герой достигает высокой цели, не приложив к этому особых усилий, что встречается в русском фольклоре). Особо ценится работа «на совесть», с приложением душевных сил. При этом труд не является абсолютной ценностью, существует нечто более важное – вера в Бога и соблюдение его заповедей.
Список литературы Отражение фольклорного концепта «труд» в языке русской и болгарской народной сказки
- Аврамова В. Лингвокультурология. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2007.
- Алещенко Е. И. Когнитивные аспекты языка русской народной сказки. Волгоград: Перемена, 2006.
- Български народни вълшебни приказки. София: Дамян Яков, 2004.
- Български народни вълшебни приказки за змейове и самодиви. София: Дамян Яков, 2004.
- Витанова М. Отношение к труду в болгарской языковой картине мира//Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. тр. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. С. 344-366.
- Гоннова Т. В. Социокультурные характеристики концепта «Труд» в русском языковом сознании: автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2003.
- Левкиевская Е. Е. Мифы русского народа. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003.
- Минало едно време… 101 български народни приказки. Пловдив: Издателска къща «Хермес», 2006.
- Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. М.: Наука, 1984. Т. 3.
- Токарев Г. В. Теоретические проблемы вербализации концепта «Труд» в русском языке: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Волгоград, 2003.