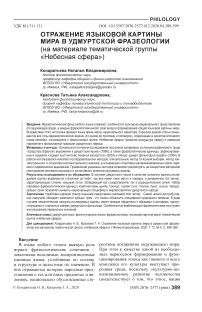Отражение языковой картины мира в удмуртской фразеологии (на материале тематической группы "небесная сфера")
Автор: Кондратьева Н.В., Краснова Т.А.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Фразеологический фонд любого языка отражает особенности культурно-национального представления об окружающей среде, а каждый фразеологизм вносит свой вклад в формирование общей языковой картины мира. Воздействие этого источника придает языку яркие черты национального характера. В фокусе данной статьи оказываются все типы фразеологических единиц (от идиом до пословиц и поговорок), содержащие в качестве ключевого слова лексемы, относящиеся к тематической группе «Небесная сфера» (включая воздушную сферу) и имеющие параллели в фольклорной традиции удмуртского народа. Материалы и методы. Основным источником исследования послужили материалы из лексикографического труда «Средства образного выражения в удмуртском языке» (1996), а также фразеологические единицы, зафиксированные в изданиях «Удмурт кылтэчетъёс люканъя ужъюрттос» (2003) и «Ингур: удмурт фольклоръя лыдӟет» (2004). В работе использовался комплекс исследовательских методов: описательный, метод сплошной выборки, метод контекстуального и ситуативно-контекстуального анализа, учитывающий ситуативно-детерминированные связи паремий и паремических выражений. Применение указанных методов позволяет рассмотреть на конкретном материале соотношение системно-языкового и когнитивного аспектов изучаемых единиц. Результаты исследования и их обсуждение. В системе удмуртского языка в качестве основных единиц исследуемой группы выделяются статичное ин ‘небо', где все имеет свое место и порядок, и динамичное тöл ‘ветер', характеризующее стихию, мощный поток, обладающий как созидательной, так и разрушительной силой. Набор ключевых фразеологических единиц с компонентами шунды ‘солнце', пилем ‘туча', толэзь ‘луна', кизили ‘звезда', гудыри ‘гром' позволяет выявить национальную специфику и мировосприятие удмуртского народа. Заключение. Наиболее широкий спектр значений представлен лексемой тöл ‘ветер' . Самой низкой дистрибутивной нагрузкой обладает компонент гудыри ‘гром', что можно объяснить спецификой природного явления. В ряде случаев семантическая нагрузка исследуемых единиц имеет прямые параллели с образами и мотивами, присутствующими в отдельных жанрах удмуртского фольклора. Особенностью вербализации фразеологизмов выступает использование переносных значений.
Удмуртский язык, финно-угорские языки, фразеологизмы, языковая картина мира, тематическая группа
Короткий адрес: https://sciup.org/147217991
IDR: 147217991 | УДК: 811.511.131 | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.04.389-399
Текст научной статьи Отражение языковой картины мира в удмуртской фразеологии (на материале тематической группы "небесная сфера")
В языке любого этноса важную роль играют фразеологические сочетания – лексически неделимые, воспроизводимые единицы языка, устойчивые по составу и структуре и целостные по значению. В них отражаются история, народные представления о тех или иных предметах и явлениях, национально обусловленные сте- реотипы восприятия окружающего мира. При этом в качестве одной из необходимых первооснов формирования и функционирования этноса как такового и всего комплекса его культуры выступает природная среда, поскольку «культурно-цивилизационное развитие человечества свидетельствует о том, что этнос, нация и окружающая среда всегда представляли собой взаимосвязанную этнокультурную экологическую систему» [9].
Основной целью данной статьи стало изучение фразеологических единиц (ФЕ), в том числе паремий, содержащих в качестве ключевого слова лексему, относящуюся к тематической группе «Небесная сфера» (включая воздушную сферу), а также выяснение их роли в репрезентации языковой картины мира удмуртского народа.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: а) выявить представленность ФЕ исследуемой тематической группы в лексикографических изданиях; б) определить их семантическое наполнение; в) выделить культурно-языковые особенности ФЕ, сохранивших архетипические основания и обеспечивающих построение общего, идентичного для носителей языка культурного пространства.
Тематическая группа «Небесная сфера» является одной из малоизученных в удмуртской лингвистике, что обусловливает актуальность исследования. Между тем набор ключевых ФЕ с компонентами ин ‘небо’, тол ‘ветер’, шунды ‘солнце’, пилем ʻтучаʼ, толэзь ʻлунаʼ, кизили ʻзвездаʼ, гудыри ʻгромʼ позволяет определить особенности языковой картины мира удмуртского народа, которая рассматривается как «важная составная часть общей концептуальной модели мира в голове человека, т. е. совокупности представлений и знаний человека о мире, интегрированной в некое целое и помогающей человеку в его дальнейшей ориентации при восприятии и познании мира» [11, 169 ].
С учетом вышесказанного объектом исследования стали фразеологизмы тематической группы «Небесная сфера». Предмет исследования – семантическое содержание ФЕ указанной тематической группы в языковой и культурной проекциях.
Обзор литературы
Фиксация первых лексических материалов по удмуртскому языку относится ко второй половине XVII в. В это время через территории современной Удмуртии проходили экспедиции, целью которых были из- учение географии, природных богатств, описание жизни и быта различных народов России. Первые записи удмуртских фразеологических единиц были осуществлены гораздо позже, в XIX в., эстонским ученым Ф. Й. Видеманом: кyl pottyny ‘сказать что-то лишнее (букв.: высунуть язык) ʼ, kwara pottyny ‘крикнуть (букв.: подать голос)ʼ, ker potyny ‘стесняться’ и др. [21, 286], а также венгерским исследователем Б. Мункачи: durzä baśtini (дур басьтыны ‘заступаться за кого-тоʼ), pėd d’ėlam sėl’ėnė (пыд йылам сылыны ‘стоять на ногахʼ), gėże-bėdsa murt (гижы быдӟа мурт ‘букв.: человек с ноготок (о невысоком человеке) ʼ и др. [19, 240, 268, 608].
Традиции зарубежных исследователей XIX в. были продолжены в лексикографических изданиях ХХ в., в частности в словаре Т. К. Борисова «Удмурт кыллю-кам»: пунӥез пуны уг сиы, кионэз кион уг кеся ‘собака собаку не укусит, волк волка не задерет’, пӧзем йыр ‘букв.: вареная головушка’ и др.1 Однако лишь в 1967 г. К. Н. Дзюиной был издан отдельный лексикографический труд, посвященный изучению удмуртских ФЕ, – «Краткий удмуртско-русский фразеологический словарь», включающий более 2 000 исследуемых единиц2. В этом же издании исследователь, опираясь на труды В. В. Виноградова, предложила краткий экскурс в теорию удмуртской фразеологии и выделила три группы устойчивых словосочетаний: фразеологические сращения ( варгаз ӟазег ), фразеологические единства ( куко миндер ), фразеологические сочетания ( кыл вераны ). В 1996 г. данная работа была расширена и издана в книге «Средства образного выражения в удмуртском языке»3.
Теоретические изыскания в области удмуртской фразеологии и паремиологии были продолжены И. В. Таракановым:
он выделил основные характеристики удмуртских фразеологизмов, а также проанализировал их с точки зрения составных частей [13, 73–74 ].
Важное значение для исследования удмуртской фразеологии имеют труды Г. Н. Лесниковой, которая в качестве основного признака ФЕ в удмуртском языке рассматривает «семантическое обновление» компонентов [12]; подготовленное ею учебно-методическое пособие «Удмурт кылтэчетъёс люканъя ужъюрттос» также говорит о богатой фразеосистеме удмуртского языка4.
Как можно заметить, все вышеперечисленные работы либо фиксируют фактические данные, либо раскрывают общие теоретические основания удмуртской фразеосистемы. Однако удмуртская система ФЕ гораздо богаче, чем она описана на сегодняшний день. К сожалению, из тематических групп научное осмысление получили лишь соматизмы [8]. Перед современными исследователями стоит задача описания и других тематических групп фразеологизмов.
Материалы и методы
Основным источником исследования послужили материалы из лексикографического труда «Средства образного выражения в удмуртском языке», а также фразеологические единицы, зафиксированные в учебно-методическом пособии Г. Н. Лесниковой «Удмурт кылтэчетъёс люканъя ужъюрттос», и пословицы и поговорки из хрестоматии по фольклору «Ингур: удмурт фольклоръя лыдӟет»5. Необходимо подчеркнуть, что тематическая группа «Небесная сфера» (включая воздушную сферу) представляет собой не самую большую группу фразеологизмов – методом сплошной выборки нами было выявлено
PHILOLOGY всего 68 относящихся к ней ФЕ. Однако они имеют большое значение для репрезентации национальной языковой картины мира.
Для решения поставленных задач был использован комплекс исследовательских методов: описательный, метод сплошной выборки, метод контекстуального и ситуативно-контекстуального анализа, учитывающий ситуативно-детерминированные связи паремий и паремических выражений. Применение указанных методов позволяет рассмотреть на конкретном материале соотношение системно-языкового и когнитивного аспектов изучаемых единиц.
Результаты исследования и их обсуждение
Фразеологический фонд любого языка отражает особенности культурно-национального представления о мире, а каждый фразеологизм вносит вклад в формирование общей языковой картины мира. Воздействие этого источника придает языку яркие черты национального характера.
Как подчеркивают ученые, фразеологической системе языка свойственны такие особенности, как традиционность, устойчивость, количественное и качественное постоянство состава ФЕ в языке (см., например, [17, 66 ]).
Фразеологические единицы, отражая длительный процесс становления культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки, они всегда обращены на субъект речи и возникают не столько для того, чтобы отображать мир [6; 7], сколько для того, чтобы его интерпретировать, оценивать и проявлять к нему субъективное отношение [4, 354; 15, 19–20; 18, 230; 20, 81–84]. Иными словами, национальная специфика в семантике языка обусловлена прежде всего экстралингвистическими факторами – «особенностями развития культуры и истории народа, его образа жизни, нормами поведения в том или ином обществе, идеологией» [7, 18]. Все это в совокупности формирует языковую картину мира конкретного этноса, которая в современной гуманитарной науке рассматривает- ся как картина мира, репрезентирующая мировидение и миропонимание лингвокультурного сообщества, а также определяющая менталитет его членов, что проявляется в оценке ими состояния среды и возможности ее изменения, в позиции человека, его отношении к миру (природе, животным, самому себе, к другим людям) поведении (подробнее об этом см.: [5]). При этом важным фрагментом языковой картины мира становится именно фразеология. В. Н. Телия сравнивает фразеологический состав языка с зеркалом, в котором «лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание» [14, 83]. По мнению исследователя, всякий фразеологизм есть текст, вбирающий и хранящий культурную информацию: «…образы, лежащие в основе фразеологизмов-идиом и связанных значений слова, в основной массе прозрачны для данной лингвокультурной общности, так как отражают характерное для нее мировиде-ние и миропонимание, что и позволяет говорить о культурно-национальной специфике фразеологического состава языка» [14, 91].
Фразеологизмы, выражающие природные явления, традиционно делятся на четыре группы:
-
а) ФЕ с элементами небесной сферы (включая воздушную сферу);
-
б) ФЕ с элементами огненной сферы;
-
в) ФЕ с элементами земной сферы;
-
г) ФЕ с элементами водной сферы.
Данная статья посвящена изучению фразеологических единиц с компонентами тематической группы «Небесная сфера» (включая воздушную сферу). В вышеназванных источниках были выделены ФЕ, относящиеся к указанной группе и отражающие мировосприятие удмуртского народа. Рассмотрим каждую из них подробнее.
-
1. Исходя из названия тематической группы «Небесная сфера» смыслообразующей для исследуемой группы ФЕ становится лексема ин ʻнебоʼ (всего 11 словоупотреблений, что составляет 16,2 % от общего количества выявленных примеров), содержащая в семантической нагрузке следующие ключевые признаки:
-
а) небо – покров: Инмысь усем кадь (СОВУЯ, с. 39) ʻСловно с небес свалилсяʼ; Инмысь кизилилэсь васькемзэ вите (СОВУЯ, с. 38) ʻбукв.: Ждет, когда с неба звездочка упадетʼ; Инэз йырыныз пыке (СОВУЯ, с. 39) ʻбукв.: Головой небо подпирает (о высоких людях)ʼ; Парсь инмез уг адӟы (СОВУЯ, с. 87) ʻбукв.: Свинья не видит неба (о недалеком человеке)ʼ; Инмысь усемзэ возьматозь, пыд азьысьсэ утялты (Ингур, с. 304) ʻЧем ждать манны небесной (букв.: то, что упадет с неба), прибери из-под ногʼ; Инмез йырчукин уд берыкты (Ингур, с. 320) ‘Небо не опрокинешь’; ин-мысь уз усьы (Лесникова, с. 36) ʻбукв.: не упадет с небесʼ;
-
б) иной мир, который отличается от устоев земной жизни: Инмысь музъем вылэ васькыны (СОВУЯ, с. 38). ʻбукв.: Спуститься с небес на землю ~ Витать в облакахʼ; Йырыз инмын, ачиз пень вылын (СОВУЯ, с. 42) ʻбукв.: Голова на небе, сам на золе ~ Всяк знай свой шестокʼ. Необходимо почеркнуть, что в этом верхнем ярусе мира возвышался могущественный бог Инмар - обладатель многих эпитетов: вы-лысь , югыт , тöдьы , мусо , быдӟым – верховный, светлый, белый, дорогой, великий [1, 101–102 ]. Как отмечал П. Богаевский в конце XIX в., «Инмар – источник всего доброго и хорошего, творец людей и всего мира… Для него не существовало и не будет существовать времени; живет он не для себя, а для людей, которые в свою очередь должны жить только для него. Его постоянное местопребывание на солнце, причем небо служит ему одеждою» (цит. по: [2, 68–69 ]);
-
в) высшее проявление, предел возможностей, мечтаний: Инме ӝутыны (СОВУЯ, с. 38) ʻПревозносить до небесʼ;
-
г) чистота: Инмез саптась (СОВУЯ, с. 38) ʻбукв.: Коптитель неба (о тунеядце)ʼ; Инмысь сьöд лымы уг усьы (Ингур, с. 320) ʻбукв.: С неба не идет черный снегʼ.
-
2. В исследуемой группе ФЕ, как показывают количественные подсчеты, доминирует компонент тöл ʻветерʼ (всего 25 словоупотреблений, что составляет 36,8 % от общего количества ФЕ тематической группы). В качестве смыслообразующих признаков в этом случае можно выделить следующие:
Указанный выше признак находит параллели и в других жанрах удмуртского фольклора. В этом ключе отдельно следует отметить бытование удмуртского мифа о том, почему небеса отдалились от земли: «Вначале небо было чистое, как снег, белое, как березы. И на земле среди людей царили мир и согласие. Счастливые были времена! <…> Однажды женщина, издеваясь над прекрасным небом, забросила на облака грязные пеленки. И боги ничего ей за это не сделали. Только белые небеса сразу потемнели, посинели и начали медленно подниматься все выше и выше над землей и стали совсем недосягаемыми» (Ингур, с. 18).
-
а) легкость: Тöл кадь лобаны (СОВУЯ, с. 118) ʻНоситься как ветерʼ;
-
б) свобода: Тöлъя-буръя лэзьыны (СОВУЯ, с. 119) ʻПустить по ветруʼ. При этом свободу необходимо отличать от бесхребетности: Тöл кудлань, со но солань (СОВУЯ, с. 118) ʻКуда ветер, туда и онʼ; Кудпала тöл, со но сопала (СОВУЯ, с. 55) ʻКуда ветер, туда и онʼ;
-
в) инициатор действий, происходящих изменений: Тöлтэк писпу уг выры (СОВУЯ, с. 119) ʻбукв.: Дерево без ветра не качаетсяʼ; Куссэ лек тöл чигтоз (СОВУЯ, с. 59) ʻТалию ветром переломитʼ; Тöлтэм дыръя ӵашетӥсь пипу (СОВУЯ, с. 119) ʻбукв.: Как осина, шумящая в безветренную погоду (о человеке, любящем пошуметь без причины)ʼ; Пуны утоз – тöл нуоз (СОВУЯ, с. 97) ʻСобака полает, ветер унесетʼ; Шулдыр куазез тöл сöре, улон ку-сыпез кыл сöре (Ингур, с. 311) ʻбукв.: Ясную погоду ветер портит, человеческие отношения слово разрушаетʼ;
-
г) ветер – метафора силы: Огназ сылӥсь писпуэз тöл погыртэ (СОВУЯ, с. 82) ʻбукв.: Одинокое дерево ветер валит (одинокому человеку трудно преодолеть не-взгоды)ʼ; при этом движение против ветра не может увенчаться успехом: Тöллы пумит ветлыны секыт (СОВУЯ, с. 118) ʻбукв.: Против ветра ходить тяжелоʼ; Тöллы пумит эн сяла (СОВУЯ, с. 118) ʻНе плюй против ветраʼ;
-
д) безделье: Тöлэз уйыса ветлыны (СОВУЯ, с. 119) ʻбукв.: За ветром гонять-
- ся (бездельничать)ʼ; тöлъя ветлыны (Лесникова, с. 111) ʻходить по ветруʼ;
-
е) умонастроение человека: Визьмыз тöлъя шудэ (СОВУЯ, с. 20) ʻбукв.: Ум по ветру играет ~ Ветер в головеʼ; Йыраз тöл шула (СОВУЯ, с. 39) ʻВетер в головеʼ; Йы-рысь тöлӟиз (СОВУЯ, с. 42) ʻВылетело из головыʼ; Тöл вуко (СОВУЯ, с. 118) ʻбукв.: Ветряная мельница (о ветреном, легкомысленном человеке)ʼ; Тöло пу (СОВУЯ, с. 118) ʻбукв.: Ветродуй, Ветрогон (о непостоянном, ненадежном человеке)ʼ; или отсутствие чего-либо: кисыын тöл шула (Лесникова, с. 45) ʻбукв.: в кармане ветер свистит (о безденежном человеке)ʼ;
-
ж) ветер – необходимое условие для круговорота жизни: Тöлтэм азе тузон пук-се (СОВУЯ, с. 119) ʻбукв.: На безветренное место пыль садитсяʼ.
-
3. Как и во многих фразеосистемах мира, в удмуртской паремии важное место занимает компонент шунды ʻсолнцеʼ (всего 21 словоупотребление, что составляет 30,9 % от общего количества ФЕ исследуемой тематической группы), обладающий следующим набором признаков:
Интересно, что традиционный для многих лингвокультур признак ʻскорый, быстрыйʼ (например, англ. Go (or run ) like the wind (also outstrip the wind ); амер. split the wind ʻмчаться во весь опор, нестись; бежать со всех ног, сломя голову; нестись как ветерʼ или англ. Like the wind ʻбыстро, как ветерʼ) в проанализированных источниках не обнаружен.
В удмуртской фразеосистеме ограниченную дистрибутивную нагрузку имеет лексема сильтöл ʻсильный ветер, буряʼ, характеризующаяся признаком «несчастье, беда»: Сильтöл ӝужыт писпуэз нырысь погыртэ (Ингур, с. 322) ʻСильный ветер вначале валит одиноко стоящее деревоʼ, а также тöлпери ʻвихрь, буран, ураганʼ, ассоциирующаяся или с эмоциональными порывами человека: Мугораз тöлпери шудэ (СОВУЯ, с. 74) ʻбукв.: В теле буран играет (разошелся)ʼ, или с разрушительной силой: тöлпери кадь ортчыны (Лесникова, с. 110) ʻпройтись ураганомʼ.
-
а) регулятор движения жизни, ритмики времени: Нуналлэн чеберез шунды ӝужаку ик адске (СОВУЯ, с. 79) ʻбукв.:
Каков будет день, по восходу солнца узнаю (каким будет человек, уже с детства видно)ʼ; Шундыез уин адӟыны уг луы (СОВУЯ, с. 136) ʻбукв.: Ночью солнца не видатьʼ; Шунды ке потэ, толэзь но кысэ (СОВУЯ, с. 136) ʻКогда солнце всходит, и луна гаснетʼ; Шундыез толэзен эн сура (СОВУЯ, с. 136) ʻбукв.: Солнце с луной не путай ~ Солнце – князь земли, луна – княжна’; Шунды - выллань, нунал - азь-лань (СОВУЯ, с. 136) ʻСолнце – выше, день – вперед (в природе все закономер-но)ʼ. Несмотря на то что солнце является гарантом рождения нового дня, жизнь полна неожиданностей: Гулбечысь шун-ды ӝужаз ке, соку лэсьтоз (СОВУЯ, с. 28) ʻбукв.: Только тогда сделает, когда солнце из подполья взойдетʼ;
-
б) уникальность небесного светила / уникальность жизни: Шунды котькытын одӥг (СОВУЯ, с. 136) ʻСолнце всем одинаково светитʼ; Шундыез мешоке уд куты (СОВУЯ, с. 136) ʻСолнышко в мешок не поймаешьʼ; Нуналаз шунды кык пол уг ӝужа, адямилы улон кык пол уг сётӥськы (Ингур, с. 307) ʻСолнце не встает дважды в день, человеку две жизни не даетсяʼ;
-
в) эталон трудолюбия: Жужась шун-ды валесысен иземдэ медаз адӟы (Ингур, с. 303) ʻбукв.: Восходящее солнце пусть не видит, как ты спишь в постелиʼ; Шудо луэмед потэ ке, шундылэсь ӝужамзэ эн возьма, ачид азьло султы (Ингур, с. 307) ʻЕсли хочешь быть счастливым, не жди, пока солнце взойдет, вставай сам раньше негоʼ; Азьтэм муртлы шунды но вазь ӝужа (СОВУЯ, с. 8) ʻЛенивому кажется, что и солнце рано встаетʼ. Данный признак является одним из частотных в пословицах и поговорках удмуртского народа: Уж дыръя шундыез ачид сайкаты (Ингур, с. 304) ‘В страду солнце сам буди’; Гыры-ку шундыез уг учко (Ингур, с. 303) ʻКогда пашут, на солнце не поглядываютʼ;
-
г) разнообразие бытия: Шунды но ог-кадь уг ӝужа (СОВУЯ, с. 136) ʻбукв.: И солнце не всегда одинаково всходит ~ И солнце не всех одинаково греет’; Потым-тэ шундыен шунтӥськыны (Лесникова, с. 85) ʻбукв.: Греться в тепле солнца, которое еще не взошло ~ Делить шкуру неубитого медведяʼ;
-
д) источник счастья: Ӵук бус шундыез уз вормы (Ингур, с. 323) ʻУтренний туман не затмит солнцаʼ; Шундыез пилем уз ӵокса (Ингур, с. 323) ʻТуча не скроет солнцаʼ;
-
4. Еще один присутствующий в удмуртской паремии компонент из тематической группы «Небесная сфера» – пилем ʻтуча, облакоʼ (всего 6 словоупотреблений, что составляет 8,8 % от общего количества ФЕ исследуемой тематической группы), собирающий следующие признаки значений:
Отметим, что в удмуртской фразеоси-стеме в отличие от некоторых других образ солнца редко ассоциируется со способностью излучать свет и тепло: Шунды шорын шуныт, нэнэ бордын лякыт (Ин-гур, с. 315) ʻНа солнце тепло, рядом с матерью душевноʼ. Данный признак чаще актуализируется в противопоставлении с образом толэзь ʻлунаʼ: Толэзь пиштэ ке но, уг шунты (СОВУЯ, с. 117) ʻЛуна светит, да не греетʼ.
Солнце – источник жизни. Неслучайно, как и в других культурах (например, англ. Great Sun! ʻБоже мой! Видит бог! Вот те на! Не может быть! Честное слово! Вот так так!ʼ), главная клятва у удмуртов связана с солнцем: Та шунды понна! (Лесникова, с. 109) ʻбукв.: Вот за это солнце! Солнцем клянусь!ʼ.
Удмуртский исследователь Т. Г. Владыкина образ Матери-Солнца Шунды-Мумы относит к числу главных среди природных праматерей: Матери-Луны Толэзь-Му-мы , Матери-Воды Ву-Мумы , Матери-Грома Гудыри-Мумы и т. д. По свидетельству ученого, он представлен в текстах разного жанра: от детских закличек к Шунды-Му-мы или к самому солнцу с просьбой выйти в пасмурный, дождливый день, чтобы согреть все живое, до гостевых ритуальных песен, где дневное небесное светило становится одним из распространенных образов психологического параллелизма [2, 29–32 ].
-
а) неприятности, беда: Пилем улысь шунды потӥз (СОВУЯ, с. 91) ʻбукв.: Из-за тучи выглянуло солнце (беда миновала)ʼ; Пилемтэк зоре (СОВУЯ, с. 91) ʻДождь без туч (плакать без причины)’; Шундыез пилем уз ӵокса (Ингур, с. 323) ʻТуча не скроет солнцаʼ;
-
б) структурная единица мироустройства: Пилем ке вань, зорез но вань (СОВУЯ, с. 91) ʻбукв.: Тучи есть, будет дождь (без причины не бывает следствия)ʼ; Пилем-тэм инмысь гудыриез уд кылы (СОВУЯ, с. 91) ʻБез тучи грома не бываетʼ;
-
в) непостоянство: Пинал визь – тöлъя-буръя пилем кадь (Ингур, с. 308) ʻбукв.: Молодой ум – словно облако, гонимое ветром ʼ.
-
5. Толэзь ʻлунаʼ – один из интереснейших образов в удмуртской мифологии, представленный в трех ипостасях: 1) небесное светило; 2) мифологизированный космический объект, требующий особого почитания; 3) календарный месяц [3, 128 ; 16, 88 ].
В системе фразеологизмов исследуемая лексема представлена довольно редко (нами зафиксировано всего 2 словоупотребления, что составляет 2,9 % от общего количества выявленных примеров), обладая следующими смыслообразующими признаками:
-
а) отдаленность, высота: Толэзьысь васькем (СОВУЯ, с. 118) ʻбукв.: с луны спустилсяʼ;
-
б) отсутствие тепла: Толэзь пиштэ ке но, уг шунты (СОВУЯ, с. 117) ʻЛуна светит, да не греетʼ.
-
6. Во фразеосистемах многих языков важную роль играет концепт звезда . Однако в удмуртской фразеологической системе кизили ʻзвездаʼ отличается невысокой дистрибутивной нагрузкой (всего 2
-
7. В исследуемой группе фразеологизмов минимальной дистрибутивной нагрузкой характеризуется лексема гудыри ʻгромʼ (всего 1 словоупотребление, что составляет 1,5 % от общего количества вявленных примеров), вербализующая выражение сверхъестественных способностей:
Низкая дистрибутивная нагрузка исследуемой лексемы в удмуртской фразеоси-стеме может объясняться особым отношением к луне: «При случайном указании пальцем на луну, что воспринималось как святотатство, следовало тут же обругать себя: “ Измертан! / Излы мертан!” (ʻКамни взвешивающийʼ)» [3, 128 ].
По свидетельству В. Е. Владыкина, в удмуртском фольклоре полная луна служит символом здоровья, красоты ( тыр толэзь кадь ʻсловно полная лунаʼ). Отмечая красоту человека, удмурты предпочитают говорить не чебер ʻкрасивыйʼ, а чылкыт, сайкыт ʻчистый, ясныйʼ – данные эпитеты ассоциируются с признаками луны [1, 36 ].
PHILOLOGY словоупотребления, что составляет 2,9 % от общего количества словоупотреблений исследуемой тематической группы) и чаще всего является метафорой множественности: кизили мында ʻкак звезд (на небе)ʼ, или удаленности: инмысь кизили кадь (Лесникова, с. 36) ʻкак звезда в небеʼ. Близкое значение представлено и в удмуртском фольклоре: «Звезды – символ множества, бессчетности, созвездие – символ нераздельности и недостижимости» [2, 39 ].
Несмотря на то что на сегодняшний день исследователями выявлено более 50 удмуртских космонимов [10], названия звезд во фразеологизмах практически отсутствуют. Аналогичная тенденция характерна в целом для удмуртского фольклора, где «“именные” созвездия и отдельные звезды встречаются не так часто, но в весьма оригинальных сопоставлениях песенных ассоциативных параллелизмов» [1, 40–41 ]. Вероятно, данная тенденция связана с особым отношением к звездам, с верой в существование души в виде звезды. Как отмечает В. Е. Владыкин, эта вера прослеживается в устойчивом сочетании кизили усем ʻзвездой отмеченный (букв.: звезда упала)’ – так удмурты говорят о парализованном человеке, не умершем, но уже как бы «обездушенном». Дурным предзнаменованием считались кометы быжо кизили ‘букв.: хвостатые звезды’ [1, 43 ]. Допустимо предположить, что изучение художественных произведений удмуртских авторов позволит в перспективе определить дополнительные семантические возможности удмуртских космони-мов.
Гудыри но уз вырӟыты (СОВУЯ, с. 28) ʻИ громом не прошибетʼ.
По-видимому, это обусловлено высокой степенью мифологизации образа, а также страхом перед сверхъестественными силами. Исследователи удмуртской мифологии отмечают, что Праматерь-Гром Гудыри-мумы воспринималась как объединенный образ грома и молнии, как божество, вызывающее бури и грозы, уничтожающее градом хлеба, карающее за грехи, особенно если рвут цветы дикой гвоздики в период летнего солнцестояния [3, 128].
Заключение
Во фразеологической системе удмуртского языка устойчивые выражения, репрезентирующие тематическую группу «Небесная сфера» (включая воздушную сферу), занимают важное место, несмотря на то что в лексикографических трудах зафиксировано всего 68 соответствующих фразеологических единиц. Нами выявлено семь лексем, активно участвующих в образовании ФЕ исследуемой тематической группы: ин ʻнебоʼ, тӧл ʻветерʼ, шунды ʻсолнцеʼ, пилем ʻтучаʼ, толэзь ʻлунаʼ, кизили ʻзвездаʼ, гудыри ʻгромʼ. Каждый из них имеет свое семантическое наполнение.
Наиболее широкий спектр значений представлен лексемой тöл ʻветерʼ (36,8 % от всех словоупотреблений), доминантными признаками которого являются динамичность и мощь. Самой низкой дистрибутивной нагрузкой обладают компоненты гудыри ‘гром’ (1,5 %), то-лэзь ʻлунаʼ (2,9 %), кизили ʻзвездаʼ (2,9 %). Близкое соотношение частотности употребления исследуемых лексем, а также их семантическое наполнение характерно и для текстов удмуртского фольклора. Это позволяет говорить о национально-культурной специфике репрезентации исследуемых фразеологических единиц.
Семантика фразеологизмов и паремий доносит до нас представление наших предков о субъектах и объектах естественного (природного) мира, качествах и свойствах этих субъектов и объектов. Оно отражается в семантике языковых единиц через систему значений и ассоциаций. Особенностью репрезентации ФЕ небесной сферы выступает использование переносных значений, а именно: от прямого значения собственно природных явлений через физические характеристики человека к характеристике его духовной сферы, например: пилем ‘туча’ - пи-лемо мылкыд ʻбукв.: облачное настроение = плохое настроениеʼ – Шундыез пилем уз ӵокса ʻбукв.: Туча не скроет солнцаʼ в значении ʻДобро побеждает злоʼ.
Фразеологические единицы исследуемой тематической группы не только передают отношение к различным природным явлениям (страх, почитание, уважение и др.), но и представляют собой некий свод знаний, в котором концентрируется информация, содержащая совокупность знаний о миропорядке. Таким образом, изучение фразеологических единиц различных тематических групп способствует решению вопросов соотношения языка и культуры, языка и общества, языка и мышления, языка и поведения, языка и лингвистической дидактики .
Поступила 10.09.2020, опубликована 25.12.2020
REFLECTION OF THE LINGUISTIC
PICTURE OF THE WORLD
IN UDMURT PHRASEOLOGY
Список литературы Отражение языковой картины мира в удмуртской фразеологии (на материале тематической группы "небесная сфера")
- Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 1994. 384 с.
- Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклорный миротекст: образ, символ, ритуал: моногр. Ижевск: МонПоражён, 2018. 298 с.
- Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Ар-год-берган: обряды и праздники удмуртского календаря. Ижевск: Удмурт. ун-т, 2011. 320 с.
- Гендерная репрезентация марийской этнической идентичности: язык, фольклор, литература: моногр. / под ред. Н. Н. Глухо-вой. Йошкар-Ола: Стринг, 2017. 384 с.
- Гончарова Н. Н. Языковая картина мира как объект лингвистического описания // Известия Тульского государственного университета. 2012. № 2. С. 396-405.
- Душенкова Т. Р. Ключевые понятия удмуртской языковой картины мира: моногр. Ижевск: Шелест, 2020. 246 с.
- Душенкова Т. Р. Эмоциосфера удмуртской языковой картины. Ижевск, 2020. 324 с.
- Егоров А. В. Удмуртская соматическая фразеология (в сопоставлении с венгерской): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ижевск, 2010. 19 с.
- Карабукаев К. Ш. Экологические традиции как важный фактор взаимосвязи общества и природы (на примере кыргызского народа) // Манускрипт. 2017. № 11 (85). С. 83-85. URL: https://cybe rleninka. ra/article/n/ekologicheskie-traditsii-kak-vazhnyy-faktor-vzaimosvyazi-obschestva-i-prirody-na-primere-kyrgyzskogo-naroda (дата обращения: 07.09.2020).
- Кириллова Л. Е. Удмуртская космони-мия // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2016. № 2 (31): Сакральное пространство в культуре народов Урало-Поволжья. С. 31-40.
- Кубрякова Е. С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. Москва, 1988. С. 141-172.
- Лесникова Г. Н. Фразеология удмуртского языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ижевск, 1994. 22 с.
- Тараканов И. В. Удмурт лексикая очер-къёс. Ижевск: Удмуртия, 1971. 96 с.
- Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, парадигматический и лингвокультурологический аспекты. Москва: Языки рус. культуры, 1996. 288 с.
- Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики межъязыковой и межкультурной коммуникации. Москва: Слово, 2008. 344 с.
- Шутова Н. И. История происхождения и семантика лунного знака Толэзё // Вестник Удмуртского университета. Сер.: История и филология. 2015. Т. 25, вып. 4. С. 87-94.
- Hakulinen A., Ojanen J. Kielitieteen ja fo-netiikan termistöä. Tampere: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993. 170 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; 324).
- Lakoff G. The contemporary theory of metaphor // Metaphor and thought / ed. by A. Ortony. Cambridge, 1993. P. 202-251.
- Munkacsi B. A votjak nyelv szotara. Budapest, 1896. XVI + 758 l.
- Nenonen M., Penttilä E. Eponyymiset idiomit suomen kielessä // Sananjalka. 2019. Vol. 61, no. 61. S. 80-103.
- Wiedemann F. J. Grammatik der wotjakischen Sprache nebst einem kleinen wotjakisch-deutschen und deutsch-wotjakischen Wörterbuche. Reval: Kluge & Ströhm, 1851. 390 S.