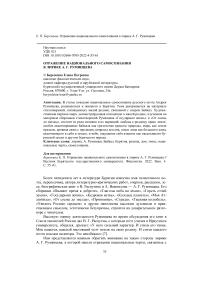Отражение национального самосознания в лирике А. Г. Румянцева
Автор: Березкина Елена Петровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье показано национальное самосознание русского поэта Андрея Румянцева, родившегося и жившего в Бурятии. Тема раскрывается на материале стихотворений, посвященных малой родине, связанной с озером Байкал. Художественная картина мира, демонстрирующая отношение к малой родине, изученная на материале сборников стихотворений Румянцева «Государыня жизнь» и «От сосны до звезды», состоит из ряда мотивов и их вариаций: любовь к родному краю, земле, особое акцентирование Байкала как средоточия красоты природы, мира, как земли предков, кровная связь с предками, вопросы детства, показ дома как большого дома, включающего в себя и землю, и небо, ощущение себя азиатом как насельником бурятской земли и другом бурятского народа.
Лирика, а. румянцев, байкал, бурятия, родина, дом, топос, национальные черты, самосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/148325667
IDR: 148325667 | УДК: 821 | DOI: 10.18101/2686-7095-2022-4-55-61
Текст научной статьи Отражение национального самосознания в лирике А. Г. Румянцева
Более пятидесяти лет в литературе Бурятии известно имя талантливого поэта, переводчика, автора литературно-критических работ, очерков, рассказов, эссе, биографических книг о В. Распутине и А. Вампилове — А. Г. Румянцева. Его сборники «Взывает время к доброте», «Глаголы неба на земле», «Горсть отчей земли», «Государыня жизнь», «Кедровая ветвь», «Колодец планеты», «Моя Атлантида», «От сосны до звезды», «Признание», «Страда», «Таежная колыбель», «Увидеть Россию сердцем» и другие наполнены высоким духовным и нравственным смыслом, эстетически безупречны, строятся на доверительном разговоре с читателем.
Высокую оценку деятельности Румянцева во время обсуждения его книг в Союзе писателей России дал В. Г. Распутин, с которым поэт учился в Иркутском университете, общался, дружил: «У него сильный характер. И стихи его такие. Мне кажется, каждый настоящий поэт похож на свою родину. И стихи каждого поэта похожи на автора. Это неизбежно» [7].
Нам представляется важным обратить внимание на такую сторону лирики А. Г. Румянцева, в которой нашли отражение национальные черты, связанные с природой родного края, традициями и обычаями русского народа, живущего в дружбе и родстве с бурятским народом и другими национальностями, проживающими на территории Бурятии.
Чаще всего, когда речь идет о национальной литературе в региональном контексте, обращаются к бурятским авторам и их трудам. О специфике национальных основ литературы Бурятии писал ряд исследователей: С. И. Гармаева [3], о литературоведческих исследованиях бурятской литературы постсоветского периода И. В. Булгутова [2], об отдельных авторах Л. Ц. Халхарова [11]. Данные исследователи акцентировали особенности бурятской литературы как национальной литературы.
Между тем национальные образы мира, которым было посвящено исследование Г. Д. Гачева «Национальные образы мира» с его троичной моделью национального мира «Космо-Психо-Логос» [4], проявляются у всех авторов, вне зависимости от их этнической принадлежности. Исследователь А. А. Арзамазов считает, например, что национальная литература — «сложное и теоретически недостаточно осмысленное художественно-эстетическое, этнопсихологическое, языковое явление. Очевидно, что национальная литература — своеобразная цепочка различных коммуникативных стратегий, как взаимодействующих между собой, так и образующих пространство «разрывов»» [1, с. 14].
В свете сказанного русский поэт Бурятии Андрей Румянцев в полной мере представляет региональный вариант русского национального характера, русской картины мира. Тем более что черты национального характера складываются исторически и остаются постоянными в своей основе. Природа и общество, политика и экономика, культура и идеология, традиции и обычаи — все накладывает отпечаток на национальный характер и находит отражение в произведениях литературы.
В рамках данной статьи остановимся прежде всего на тех стихотворениях поэта, в которых отразилась его малая родина и показана тесная взаимосвязь русского и бурятского народов. О тесной связи творческой личности со своей малой родиной писал известный философ начала ХХ в. И. А. Ильин: «Неописуемо присутствуют в каждом из нас веяния наследственно окружающей нас природы, дыхание нашей национальной истории, потомственно намоленные в душе религиозные сокровища духа» [5, с. 336‒337].
Основным мотивом лирики А. Румянцева является любовь к родному краю: Байкалу, Бурятии, родной деревне, ее патриархальному быту. Приведем несколько примеров из цикла «На вещей родине», включенного в сборник стихотворений «От сосны до звезды» (2017): «Ведь это дар чудесный просто: Дом у Байкала, на юру, И плес. И поле за погостом, Где плач и песня на миру», «Здесь тонет день в табунных гулах, Шуршит полынная река… Мне этих лиц широкоскулых Родная лепка дорога», «Байкал! Над счастьем и бедой Твой голос вечен у завалин», «А тайга на горах Прибайкалья — Соболиный лоснящийся мех… Только здесь так высоко и броско Вровень с тучами скалы рябят» [8, с. 9, 16, 18, 30]. Автора охватывает оторопь от того, какой дар он получил от судьбы, и этот дар — родина. Эпитет «вещий» — умный, мудрый, рассудительный, предсказывающий будущее, - вписывает родину не только в природный, но и в исторический контекст.
В лирике Румянцева отразились суровая красота и мощь национальной природы Байкала, Бурятии: «Все, как в детстве: Луга, и болота, И Байкал, и гольцы вдалеке», «За домом — поле да тайга, Дорога да погост в песочке. А дальше — влажные луга, Байкал, крутые берега Да в море дальних лодок точки…» [8, с. 44, 49]. Поэт неразрывно связан с землей, на которой ему довелось родиться и жить.
В целом ряде стихотворений поэт, обращаясь к Байкалу, указывает на родство с суровым и энергетически мощным озером-морем, которое кормило и спасало и его, и деда, и отца: «Я не знаю, где оно, начало Нашего знакомства и родства. С детских лет волна твоя качала И меня, и деда, и отца» [9, с. 12]. Преданность родным местам настолько сильна в душе лирического героя, что даже в больших городах, столицах мира, ему неуютно: «Мы растем, мы ездим за полсвета, Изучили улицы столиц. Только я твоей отмечен метой, Ветром обожжен и темнолиц» [9, с. 12]. На родине поэта все пропитано особым воздухом — духом памяти, связи с предками, с детскими воспоминаниями, суть которых выкристаллизовывается с годами. Именно они делают человека сильным: «Закаляло, Исцеляло море: Крепкий дед мой От любой беды В туеске, как заговор от хвори, Мне байкальской привозил воды» [9, с. 12].
Если в русских народных песнях батюшкой назывался Дон, то в лирике Румянцева и других поэтов Бурятии батюшкой, отцом становился Байкал. Именно особенное уважение и отношение к образам родины — водной стихии Байкала, лесам и степям родной земли, — является отражением национального самосознания. «Предки доброе жито растили, Запахав сарану и репей, У восточной заставы России, У закрайка монгольских степей» — такое определение родовому обжитому пространству и делам предков дает поэт. Им подчеркивается дружба и неразделимость двух народов — русского и бурятского: «И как правнук и внук азиата, Я раскосое солнце люблю. Братом я называю бурята, Хлеб и соль с ним по-братски делю» [9, с. 43].
В сибирском суровом краю научился поэт чувствовать красоту и мощь родной природы, слышать плеск волн и пение птиц, встречать рассветы и закаты, ощущать гармонию, разлитую во всем окружающем мире: «Лоснился луг, Звенели звезды, Плясала вольная вода. Хмельной, медовый, пряный воздух Я полной грудью пил тогда», «Все те же просторные дали, И горы, и сосны — стеной. И воздух любви и печали Повсюду разлит надо мной», «И снова во поле горит Неугасимая саранка, Неустрашимая гражданка Страны ромашек и ракит!» [8, с. 13, 111, 133]. Глубокое чувство любви к родине, любование ее просторами, умение передать неповторимый миг, затрагивающий самые скрытые струны души, увидеть и показать словами больше, чем нарисовать акварелью, именно в этом проявляется высокое мастерство поэта.
А. И. Солженицын в книге «Россия в обвале» (1998) заметил: «Мне уже приходилось писать, и не раз, что благословенна каждая национальная культура. Что нации — это краски человечества; исчезни они — человечество стало бы так же уныло однообразно, как если бы все люди приняли бы одинаковую наружность и одинаковый характер» [10, с. 115]. И если посмотреть на стихи А. Румянцева, то можно увидеть неповторимость национального и самобытного, воплощенную в поэтическом слове.
Не только красота и мощь Байкала попадают в поле зрения лирического героя стихов Румянцева, но и его свирепость, и тяжелый труд по ловле рыбы неводными бригадами, ледяная вода, резкий ветер, многие часы работы: «Ночь на дальние утесы черный бросила покров. Дед в Байкал забросил сети, но не вытащил улов. Загудела мгла ветрами, налетели облака. Жизнь рискованная насмерть укачала рыбака» [9, с. 32], «Байкал! Над счастьем и бедой Твой голос вечен у завалин», «Когда штормит Байкал, он сотрясает небо» [8, с. 18, 29]. Поэт отражает разные состояния природной стихии и человека рядом с ней, то обреченного на гибель, то ждущего спасения, то радующегося гармоничному единству с морем: «Спаситель Байкал на пороге И звезды над плесом горят!», «Байкал плескался за окном» [8, с. 95, 101].
В ряде стихотворений, отражающих тему детства и юности, лирический герой описывает тяжелый военный и послевоенный быт, большие семьи, в которых дети спали вповалку на полу, радовались краюхе хлеба с солью: «Я помню рожденья и тризны В большой многодетной семье. Ни горькой, ни радостной жизни Не надо придумывать мне...» [9, с. 36]. Детскому сознанию запомнилось то, что поддерживало жизнь и давало силы. Наряду с матерью вполне закономерно для сельского жителя появляется образ коровы — кормилицы и надежды семьи в те суровые годы: «Я буду вечно помнить дом и мать, И рядом с ними я запомню, кроха, Буренок сонных медленную рать И серебристый блеск чертополоха…» [9, с. 21]. Рождение А. Румянцева нашло отражение в стихотворении «День рождения. Янтарная осень». Тема семьи, в которой было рождено восемь детей, оказалась вписана в природный контекст «янтарной осени», «золотых хлебов», кедровых деревьев: «кедрачи — вековая порода» [9, с. 293].
Понимание родины как дома чрезвычайно важно для лирики А. Г. Румянцева. Поэтическим олицетворением дома становятся строки: «Я построил свой дом на пригорке, У речистых лучистых берез. Их девической скороговорке Не мешает ворчание гроз. Окаймляет ворсистые склоны Белопенных ромашек река. Две горы — две могучих колонны, На которых лежат облака» [8, с. 211].
Уже здесь частотное обращение поэта к концепту «дом» понимается расширительно: и как изба, двор, и как село, мир, природа рядом с деревней, и как сама земля, где родился и живет человек. Хорошо это объемное видение дома дает о себе знать в стихотворении «Когда немало было пройдено…», в котором дом — это видимая автором-наблюдателем часть Ойкумены, включающая в себя и село, и ближние поля, и пригорки, и лес: «Что сердце радостнее бьется В осевшем стареньком дому, В краю, где след полозьев вьется По взгорью — к небу самому» [9, с. 35]. Описание незатейливого быта часто соседствует, а то и переходит в картины природы, ближней и дальней. Лирический герой Румянцева не делит пространство на «свое» — закрытое — дом и «чужое» — открытое или враждебное — лес, поле, озеро, дом вписан в большое пространство, в топос большой Родины: «Ведь это дар чудесный просто, Дом у Байкала, на юру, И плес, и поле за погостом, Где плач и песня на миру». Более того, в финале стихотворения предлагается соединить горизонтальное и вертикальное, профанное и сакральное: «Соединить без всяких лестниц Небесный свод и вольный двор» [8, с. 9].
Дом, таким образом, строится не только на земле. Его чистота, свет, тепло, радость по поводу его созидания объемлют весь мир, соединяют небо и землю.
Это почти мифологическое древо, тянущееся к звезде: «И после, когда мы все выше К звезде поднимали наш дом , Я чувствовал; дерево дышит Живым сбереженным теплом. /…/ Вот даже теперь под оконцем На светлом отцовском дворе Мне кажется: вновь я под солнцем В обнимку с сосной, на горе…» [9, с. 50].
Дом — это и историческая укорененность, привязанность к суровой сибирской земле («Почему наши деды корнями, как сосны вросли…»). Просто и одновременно с глубоким историческим замахом Румянцев рассказывает об истоках своего рода: «В дальнем веке В лесах бесконечной сибирской земли Затерялись те вехи, Что прадедов наших вели». Детали в описании сибирской земли: «Приняла их земля - лоно камня, багула, смолья, И укрыло их небо, бескрайнее, как и земля» [9, с. 54‒55], — создают конкретное пространство с его национальными подробностями. Поэт, стремясь осмыслить судьбу своих предков, понять себя, связывает малую родину с большой и обращается к нечастому для него концепту Руси: «Ты забралась в такие дали, Русь! Тайга, тайга — темнее всякой тучи. /…/ Но небо! — от библейской синевы Слезами перехватывает горло!» [8, с. 41].
Тема дома неотделима от темы любви, потому что возлюбленной надо показать те родные места, которые дороги лирическому герою, которые воспитали его лучшие человеческие качества, сделали его открытым миру: «Я введу тебя в дом Не из темных сеней, А с вершины гольца, Что Байкала синей // Стены в доме моем Широки-широки От реки Селенги до Витима-реки. // А уж сколько зеркал Отражают лицо: То в распадке аршан, То в лесу озерцо» [9, с. 136]. Упоминание озер, рек, конкретика такого обращения: Байкал, Селенга, Витим, — вписывает поэта в географическое и одновременно родовое пространство Бурятии. В венке сонетов «Признание» «Опять к Байкалу привело нас лето. Люблю тебя и верую, что это Останется со мною навсегда» [8, с. 189] — также подчеркивается укорененность героя в родовом пространстве.
В стихотворении «Азиату пристало родиться…» А. Г. Румянцев признается: «Мы с тобой по судьбе азиаты». Продолжая эту тему, поэт показывает объединение людей в одну общность, родство наших народов: «Я думал в уголке уютном, Что под заоблачным шатром, Как в этой доброй теплой юрте, Мы все одной семьей живем…» [8, с. 45]. Это ощущение общности с народом послужило толчком к созданию переводов бурятских поэтов Н. Дамдинова, Ц.-Д. Дондоковой, Ч.-Р. Намжилова, М. Самбуева и др., в результате чего была издана книга «Колыбель дружбы = Хани нүхэсэлэй үлгы: буряад, ород шүлэгүүдэй ном: книга стихов на бурятском и русском языках» (2013). Переводы бурятских поэтов, сделанные Румянцевым, позволили русским читателям понять глубину их мыслей и красоту образов, стилевое и языковое своеобразие.
С. С. Имихелова очень точно отметила национальную принадлежность А. Г. Румянцева: «Поэт, похожий на свою родину» — так назвал Румянцев статью о Есенине. А разве нельзя так же назвать и самого Румянцева? Разве не соответствует чистоте и духовной силе Байкала его поэзия? Разве его не научила родная земля мужественному приятию нелегкой судьбы, открытости чужой беде и боли, бесподобной искренности его исповедальной лирики? Да, верность отчей земле, которой наполнены все творения А. Румянцева, и является той главной традицией, которой отличается русская классическая поэзия» [6, с. 131]. Поэт в своих стихотворениях мастерски изобразил колорит местного пейзажа, мощь и уникальность Байкала, кра- соту дома и семьи, воссоздал черты деревенской жизни, глубину укорененности его рода в суровых байкальских землях, духовное родство русских и бурят. А. Г. Румянцев во всех смыслах русский национальный поэт, гармонично вошедший в литературное пространство Бурятии и создавший глубокий образ малой родины.
Список литературы Отражение национального самосознания в лирике А. Г. Румянцева
- Арзамазов А. А. Литературы народов России на рубеже ХХ–ХХI столетий: про-блемы и перспективы развития // Развитие национальных литератур народов России и стран Содружества Независимых Государств: материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием (Ижевск–Воткинск, 23‒24 мая 2019 г.) / составитель Е. В. Егорова. Ижевск, 2019. 113 с. Текст: непосредственный.
- Булгутова И. В. Аспекты исследования национального в бурятском литературоведении постсоветского периода: идеи Г. Д. Гачева и их развитие // Литература и культу-ра Сибири, Дальнего Востока и восточного зарубежья. Проблемы межкультурной коммуникации. Владивосток: Изд-во ДФУ, 2020. С. 8‒11. Текст: непосредственный.
- Гармаева С. И. Типология художественных традиций в прозе Бурятии. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1997. 170 с. Текст: непосредственный.
- Гачев Г. Д. Национальные образы мира: курс лекций. Москва: Академия, 1998. 432 с. Текст: непосредственный.
- Ильин И. А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин — Ремизов — Шмелев // И. А. Ильин. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6. Кн. 1. Москва: Русская книга, 1996. 560 с. С. 336‒337. Текст: непосредственный.
- Имихелова С. С. Русская классическая традиция в поэзии Андрея Румянцева // Вестник БГУ. 2013. № 10. С. 127‒132. Текст: непосредственный.
- Распутин В. Г. Из выступления в Союзе писателей России на обсуждении книг А. Румянцева. URL: http://selorodnoe.ru/poetry/show/id3720175/? (дата обращения: 21.02.2022). Текст: электронный.
- Румянцев А. Г. От сосны до звезды: стихотворения. Венок сонетов. Поэма / предисловие К. Балкова. Иркутск: Вост-Сиб. тип., 2017. 226 с. Текст: непосредственный.
- Румянцев А. Г. Государыня жизнь: стихотворения. Венки сонетов. Поэмы. Переводы / послесловие К. Балкова. Иркутск: Родная земля, 2006. 432 с. Текст: непосредственный.
- Солженицын А. И. Россия в обвале. Москва: Русский путь, 2006. 2008 с. Текст: непосредственный.
- Халхарова Л. Ц. Национальная картина мира в прозе Ч. Цыдендамбаева. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. 132 с. Текст: непосредственный.