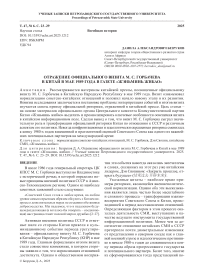Отражение официального визита М. С. Горбачева в Китай в мае 1989 года в газете «Жэньминь жибао»
Автор: Безруков Д.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 6 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются материалы китайской прессы, посвященные официальному визиту М. С. Горбачева в Китайскую Народную Республику в мае 1989 года. Визит ознаменовал нормализацию советско-китайских отношений и положил начало новому этапу в их развитии. Новизна исследования заключается в постановке проблемы: интерпретация событий и итогов визита изучается сквозь призму официальной риторики, отраженной в китайской прессе. Цель статьи – на основе материалов официального органа Центрального комитета Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» выделить и проанализировать ключевые особенности освещения визита в китайском информационном поле. Сделан вывод о том, что визит М. С. Горбачева сыграл значительную роль в трансформации официальной риторики Китая по отношению к СССР и различным аспектам его политики. Некогда конфронтационная и идеологически окрашенная риторика сменилась к концу 1980-х годов взвешенной и прагматичной оценкой Советского Союза как одного из важнейших потенциальных партнеров на международной арене.
Нормализация советско-китайских отношений, М. С. Горбачев, Дэн Сяопин, китайские СМИ, «Жэньминь жибао»
Короткий адрес: https://sciup.org/147251798
IDR: 147251798 | УДК: 94 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1212
Текст научной статьи Отражение официального визита М. С. Горбачева в Китай в мае 1989 года в газете «Жэньминь жибао»
В июле 1986 года генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев выступил во Владивостоке с исторической речью, в которой определил новые принципы внешней политики СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одним из наиболее заметных заявлений стало следующее:
«Советский Союз готов в любое время, на любом уровне самым серьезным образом обсудить с Китаем вопросы о дополнительных мерах по созданию обстановки добрососедства. Мы надеемся, что в недалеком будущем разделяющая (а хотелось бы говорить – соединяющая) нас граница станет полосой мира и дружбы» [2: 27].
Активная внешняя политика СССР и ответные шаги со стороны Китая привели к кульминационному событию периода урегулирования – официальному визиту М. С. Горбачева в Китайскую Народную Республику (КНР) в мае 1989 года. Главным формальным итогом визита стало совместное коммюнике, в котором стороны заявили о том, что нормализация отношений достигнута. Однако в общественном восприя- тии эти события навсегда оказались запечатлены в словах, сказанных на этот раз уже китайским лидером, Дэн Сяопином: «Закрыть прошлое, открыть будущее» (结束过去 开辟未来)1.
Указанные цитаты – наиболее яркие примеры риторики, касающейся внешнеполитической нормализации. Однако оба эти высказывания являются лишь частью более масштабного и сложного процесса – трансформации взаимо-восприятия Советского Союза и Китая, происходившей в период восстановления отношений. Определяющим фактором в этом процессе оказалась деятельность СМИ, выступавших в качестве ведущего инструмента государственной информационной политики. Менее чем за десятилетие отношение китайских СМИ к СССР претерпело почти диаметральные изменения: от представления о северном соседе как о главной военной угрозе и идеологическом противнике в начале 1980-х годов до сложившегося к концу периода образа прогрессивного государства и потенциального партнера. Более того, многие из сформировавшихся тогда представлений по-
служили основой для последующего развития уже российско-китайских отношений. При этом, как было замечено выше, центральным событием в процессе нормализации стал визит советского руководства в КНР в 1989 году. С точки зрения информационного освещения эти события также оказались рубежными, поскольку способствовали продвижению в Китае нового отношения как к советско-китайским отношениям, так и к самому Советскому государству. Двум соседним державам удалось не только «закрыть прошлое», но и иначе посмотреть друг на друга. Примирение сопровождалось ломкой старых шаблонов, на смену которым приходили новые взаимные представления. Именно выявление и рассмотрение таких представлений, транслировавшихся китайскими СМИ, является основной целью данной статьи.
Источниковую базу исследования составляют материалы официального печатного органа Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) – газеты «Жэньминь жи-бао» ( 人民日报 ). Выбор такого типа источника обусловлен несколькими мотивами. Прежде всего, уже отмеченная специфика функционирования СМИ в Китае. В условиях китайской политической системы преимущественный контроль над СМИ и содержанием их информационных сообщений находится в руках правящей партии. В результате материалы такого издания, как «Жэньминь жибао», становятся ценным источником, отражающим отношение высшего китайского руководства к исследуемым событиям. Кроме того, социальная значимость и востребованность в указанный период прессы в целом и «Жэньминь жибао» в частности позволяют рассматривать материалы этого издания в качестве одного из наиболее авторитетных источников для такого исследования.
ХОД ВИЗИТА И ЕГО ИТОГИ В ИЗЛОЖЕНИИ КИТАЙСКОЙ ПРЕССЫ
В истории советско-китайских отношений, отмечает Ю. С. Песков, можно выделить три знаковых встречи на высшем уровне. Прежде всего это встреча в Москве в конце 1949 – начале 1950 года И. В. Сталина и Мао Цзэдуна, итогом которой стал Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Второй стала встреча Н. С. Хрущева и Мао Цзэдуна в Пекине в 1959 году. Эти события обнажили значительные разногласия и положили начало периоду раскола. Наконец, третьей стала встреча в 1989 году М. С. Горбачева и Дэн Сяопина, ознаменовавшая возвращение советско-китайских отношений в нормальное русло [5: 472–473].
15 мая 1989 года советская делегация прибыла в аэропорт Пекина. У трапа самолета делегацию встречал председатель КНР Ян Шанкунь и другие официальные лица. По окончании церемонии М. С. Горбачев выступил с речью, в которой фактически задал тон последующим событиям. Генсек передал личные добрые пожелания китайскому народу и выразил надежду на «этапное значение» визита2. Похожие позиции транслировались и китайской стороной. Историческое значение и огромная важность этих событий обосновывались тем, что советский лидер посетил КНР впервые за 30 лет. Кроме того, особенно интенсивно через СМИ продвигалось положение о том, что визит ознаменует начало качественно нового периода в отношениях двух стран3.
Необходимо подчеркнуть, что одной из основных характеристик освещения визита в китайской прессе стало сверхинтенсивное и подробное изложение событий. Только о первом дне визита в «Жэньминь жибао» было опубликовано около десятка статей и заметок. Объемные репортажи сопровождались дополнительными комментариями и фотографиями. Как следствие, визит советской делегации наряду со студенческими протестами, развернувшимися с начала мая в Пекине и других городах Китая, на несколько дней оказался одной из доминирующих тем в информационном поле КНР.
Второй день визита стал днем переговоров на высшем уровне. Утром 16 мая М. С. Горбачев встретился с председателем Военного совета ЦК КПК Дэн Сяопином. Для обеих сторон было заранее понятно, что именно это событие определит дальнейший вектор развития отношений. Обменявшись важнейшим с символической точки зрения рукопожатием, лидеры двух государств провели обмен мнениями по широкому спектру вопросов. Как отмечал бывший министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь, предложение Дэн Сяопина во время встречи обменяться рукопожатиями, но без объятий «точно и метко обобщило характер тогдашних китайско-советских отношений» [7: 37]. Примечательно, что в изложении китайской прессы именно лидер КНР выступал координатором и вдохновителем беседы, который на правах хозяина задает тон и определяет основные темы4. Такое позиционирование представляется отнюдь не случайным. Визит М. С. Горбачева и последующая нормализация преподносились китайской стороной как крупная дипломатическая победа, поскольку Китаю удалось убедить СССР пойти на уступки в вопросе «трех препятствий», мешавших полно- ценному восстановлению отношений на протяжении всех 1980-х годов.
Во второй половине дня М. С. Горбачев встретился с премьером Госсовета КНР Ли Пэном. Предметом их разговора стали узловые вопросы двусторонних отношений. На переговорах было выражено обоюдное желание развивать сотрудничество в различных сферах, прежде всего в экономической. Особое место в беседе занял тезис о том, что отказ от конфронтации 1960–1970-х годов не означает возвращения к формату отношений 1950-х5. Этот тезис продвигался и был особенно актуальным именно для китайской стороны, поскольку период «братской дружбы» к тому моменту воспринимался руководством КНР как время политической и экономической зависимости от СССР. В результате вопрос переформатирования отношений приобрел определяющее значение в китайской официальной риторике. Уже упомянутый Цянь Цичэнь указывал, что именно установленные тогда рамки нормализации «послужили основой быстрого создания китайско-российских отношений добрососедства и дружбы» [7: 39].
Заключительной встречей дня стали переговоры советского лидера с генеральным секретарем ЦК КПК Чжао Цзыяном, что символизировало восстановление отношений между КПСС и КПК. Были заявлены новые принципы выстраивания межпартийных связей, а именно – независимость, полное равноправие, взаимное уважение и невмешательство6. Стоит отметить, что уже здесь отчетливо прослеживаются диспропорции в освещении событий двумя сторонами. Если советская пресса стремится к более равновесному изложению и, например, говорит о том, что «собеседники были согласны» с указанными прин-ципами7, то в публикации «Жэньминь жибао» принципы предлагаются китайской стороной в лице Чжао Цзыяна8. Таким образом, сообщение китайской прессы об этой встрече выдержано в том же духе, что и публикация о встрече с Дэн Сяопином. В подобном изложении Китай выступает более инициативной стороной, которая и определяет условия и содержание переговорного процесса. Думается, что такой подход был связан с желанием китайского руководства заявить о своей суверенности и большей самостоятельности в отношениях с такой «сверхдержавой», как СССР.
Центральным событием последнего дня визита стала публикация совместного коммюнике. Документ состоял из 18 пунктов. Примечательно, что наиболее объемный пункт был посвящен проблеме вывода вьетнамских войск из Кампучии9. Этот факт отразил стремление Китая добиться от СССР более твердых гарантий по окончательному разрешению наиболее принципиального «препятствия». В целом же документ закрепил все основные тезисы и предложения, озвученные в процессе переговоров.
В тот же день, 18 мая, М. С. Горбачев посетил Шанхай. Фактической целью поездки было ознакомление с опытом и успехами китайских преобразований. Там советский лидер встретился с секретарем Шанхайского городского комитета КПК Цзян Цзэминем. После приема члены делегации сперва возложили цветы к памятнику А. С. Пушкину, а затем посетили совместное китайско-японское предприятие «Шанхай-Мицу-биси»10. С точки зрения медийного эффекта эти события позволили китайской стороне еще более громко и широко заявить об успехах собственного пути реформ.
В 18:45 того же дня по пекинскому времени М. С. Горбачев и остальные члены делегации вылетели из Шанхая в Москву, что ознаменовало окончание официального визита11.
МЕРЫ ПО СОЗДАНИЮ ДРУЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКИ
Общий тон и настроение описываемых событий определялись двумя основными факторами. Главенствующую роль играла риторика официальных лиц: заявления и высказывания на протяжении переговоров, интерпретации отдельных аспектов отношений, комментарии для журналистов и многое другое. Вторым фактором стала деятельность самих СМИ, которые не только транслировали заявления партийного руководства, но и формировали отдельный информационный дискурс, существенно дополнявший официальную риторику.
Ключевым направлением деятельности СМИ были меры по созданию дружественной и благоприятной обстановки во время визита. Китайское руководство придавало большое значение информационному фону, поскольку от него напрямую зависели результаты переговоров. Тем более что ситуация значительно осложнялась студенческими протестами, грозившими в любой момент выйти из-под контроля. Хотя студенты в целом позитивно относились к налаживанию отношений с СССР и поддерживали советские реформы, они также надеялись, что Горбачеву удастся убедить китайских руководителей вступить с ними в диалог. Такие настроения вызывали серьезные опасения у китайского руководства [4: 276].
Приоритетное внимание китайской прессы было сосредоточено на фигуре М. С. Горбачева. За несколько дней до начала визита в «Жэньминь жибао» вышла объемная статья «М. С. Горбачев – советский лидер нового типа», целью которой было ознакомление китайской аудитории с биографией советского лидера и содержанием его политики. Интересен весьма эмоционально-окрашенный тон публикации. В частности, повествование о тяжелом детстве и трудовой молодости генсека сопровождалось подробными деталями и пояснениями. Одна из показательных цитат: «Каждое утро он шел на работу пешком, по пути разговаривал с людьми, вникая в ситуацию и обсуждая их пробле-мы»12. Так, с одной стороны, иллюстрировалась непритязательность, а с другой – «народность» советского руководителя. Внутриполитическая и реформаторская деятельность М. С. Горбачева освещалась также весьма подробно и положительно, отмечались его решительные шаги и успехи во внешней политике. Общий комплиментарный тон разбавлялся лишь заключительным комментарием о сложностях, с которыми сталкивались в тот момент советские реформы. При этом связаны эти сложности были не столько с ошибками руководства, сколько с «преодолением инерции старого мышления».
Заметим, что современное отношение в Китае к фигуре М. С. Горбачева фактически противоположно тому, что было указано выше. В настоящее время в китайском академическом и общественном дискурсе доминирует мысль о том, что именно политика руководящей группы М. С. Горбачева привела к распаду Советского Союза и последующим негативным последствиям. Одним из наиболее последовательных приверженцев такой позиции можно назвать Ли Шэнь-мина – известного китайского исследователя и автора многих научных работ о распаде СССР, который уделяет большое внимание личной роли последнего руководителя СССР в этих событиях [8]. С другой стороны, отдельные китайские авторы, публикующие свои исследования в том числе на русском языке, признают вклад М. С. Горбачева в нормализацию советско-китайских отношений и оценивают этот аспект как его «наиболее значимое дипломатическое наследие» [3: 78].
Во время визита китайская пресса акцентировала внимание на личном участии и значении М. С. Горбачева в этих событиях. Однако, как было отмечено выше, при освещении непосредственно самих переговоров инициатива отводилась китайским руководителям, выступавшим в изложении китайских СМИ главными координаторами процесса.
Немаловажным было и обращение СМИ к внешнеполитическому контексту. Во-первых, в рамках освещения визита пресса интенсивно использовала такой характерный прием, как изложение мнений представителей других государств. 16 мая были опубликованы мнения о визите официальных лиц и СМИ из США, Японии, Таиланда и Мексики13. 17 мая было изложено отношение к визиту государственных лидеров Японии, Пакистана и Индии14. 19 мая к ним добавились Чехословакия, Монголия, Италия и вновь Мексика15. Сам по себе выбор стран и оглашаемых ими позиций весьма отчетливо отражал задачи и китайской официальной риторики. В большинстве случаев международное мнение сходилось на мысли о том, что значение визита состоит в обеспечении безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и продвижении мировой разрядки. В целом же все эти публикации транслировали позитивное отношение мировой общественности к визиту, что подкрепляло статус происходящих событий в глазах китайского населения.
Во-вторых, параллельно с освещением визита регулярно появлялись публикации о действиях СССР, направленных на снижение эскалации в различных регионах. Так, публиковались новости о выводе советских войск из Чехословакии16, ГДР и Венгрии17, Монголии18, о прекращении поставок советского оружия Никарагуа19 и других событиях похожего характера. Так или иначе, подобные сообщения могли способствовать укреплению имиджа СССР как активного проводника международной разрядки.
Отдельную нишу заняли публикации, которые не были напрямую связаны с освещением переговоров, но также способствовали созданию дружелюбной атмосферы. 17 мая М. С. Горбачев вместе с супругой и сопровождающими лицами посетили Великую Китайскую стену, где пообщались с китайской молодежью20. В Шанхае советский лидер продолжил общение: сначала с местными горожанами при посещении памятника Пушкину, а затем с рабочими завода в районе Миньхан, о чем в подробностях сообщала пресса21. Общей чертой этих заметок было продвижение тезиса о популярности М. С. Горбачева и его визита среди всех слоев китайского населения.
Отдельное внимание пресса уделяла супруге советского лидера – Раисе Максимовне, принявшей участие во многих мероприятиях визита. Вслед за статьей о самом генсеке через несколько дней вышла заметка и о его супруге. Содержание публикации было сосредоточено на биографии, а также дипломатической деятельности Раисы Максимовны в качестве первой леди СССР22. За время визита в Китай Р. М. Горбачева успела посетить Общество китайско-советской дружбы (ОКСД), Пекинскую библиотеку, дом-музей Сюй Бэйхуна, парк Тяньтань, а также кооперативную фабрику декоративно-прикладного искусства [1: 446]. Эти мероприятия носили менее официальный характер и были направлены на укрепление связей в гуманитарной сфере. Газетные публикации об этих событиях соответствовали общему настроению встреч и содержали много неформальных подробностей. Одна из характерных цитат о встрече на мероприятии ОКСД: «На чаепитии старые друзья встретились вновь, крепко пожимали руки и долго не отпускали друг друга, а новые друзья взволнованно обменивались визитными карточками и адреса-ми»23. Как можно заметить, китайская пресса довольно активно эксплуатировала сюжет о сохранении старых связей, напоминавших о дружбе 1950-х годов, и о формировании новых контактов, направленных на потенциальное развитие отношений.
Вопросы взаимодействия двух государств в сфере культуры стали еще одной важной темой визита. Здесь необходимо упомянуть о том, что российская (впоследствии советская) культура оказывала значительное влияние на китайское общество на протяжении XX века, в особенности в первое десятилетие после образования КНР [6: 139]. Вместе с первыми проявлениями оттепели в двусторонних отношениях в китайском информационном поле стало появляться все больше материалов, связанных с советской культурой. В преддверии визита Горбачева китайская пресса существенно активизировала деятельность в этом направлении. Только за первую половину мая в «Жэньминь жибао» были опубликованы статьи на темы, связанные с Михаилом Шолоховым и «Тихим Доном»24, творчеством Галины Улановой25, Анной Ахматовой и ее связью с китайской литературой26. Спустя несколько дней после окончания визита вышла статья, посвященная личности и творчеству Чингиза Айтматова27. Все эти публикации также были выдержаны в комплиментарном стиле и содержали лестные оценки творческого наследия деятелей советской культуры.
Немалое внимание во время визита уделялось вопросам социально-культурного взаимодействия. Дело в том, что в советскую делегацию помимо официальных лиц и дипломатов вошли общественные деятели, ученые и деятели культуры. Так, в составе делегации были Чингиз Айтматов, Сергей Залыгин, Валентин Распутин и другие. Газетная заметка от 16 мая сообщала о встрече и продуктивной беседе советских писателей с более чем сорока китайскими исследователями советской литературы28. Таким образом, прямые контакты между представителями общественности также служили важным сюжетом для китайской прессы в рамках формирования дружественной обстановки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Официальный визит М. С. Горбачева в Китай в мае 1989 года стал поворотной вехой в истории советско-китайских отношений. Заметную роль в их нормализации сыграли СМИ, деятельность которых руководство обоих государств использовало в своих интересах. Китайская сторона во главу угла поставила стремление утвердить собственную независимость и самостоятельность во внешней политике, чем были обусловлены регулярные сообщения о переформатировании отношений с СССР и новых принципах в их основе. Большое внимание уделялось также формированию нового образа Советского государства, что было связано с потребностью дальнейшего развития двусторонних связей с СССР в различных сферах. Усилия китайских СМИ были направлены на складывание в китайском массовом сознании образа Советского Союза как современного социалистического государства, во главе которого стоят прогрессивные руководители, с которым необходимо развивать отношения партнерства и добрососедства.
Перспективным и интересным может быть продолжение этого исследования с точки зрения изучения китайского общественного мнения. Одна из приоритетных задач такой работы – рассмотрение тех взаимных представлений и стерео-ипов, которые сформировались у китайского населения в отношении СССР в данный период. Отдельным направлением может быть анализ влияния таких представлений на развитие современных российско-китайских отношений.