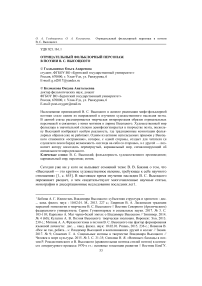Отрицательный фольклорный персонаж в поэзии В. С. Высоцкого
Автор: Голдышенко Ольга Андреевна, Колмакова Оксана Анатольевна
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Исследование произведений В. С. Высоцкого в аспекте реализации мифо-фольклорной поэтики стало одним из направлений в изучении художественного наследия поэта. В данной статье рассматривается творческая интерпретация образов отрицательных персонажей и связанных с ними мотивов в лирике Высоцкого. Художественный мир фольклора в значительной степени демифологизируется в творчестве поэта, поскольку Высоцкий изображает особую реальность, где традиционные коннотации фольклорных образов уже не работают. Одним из активно используемых приемов у Высоцкого становится «остранение», которое, с одной стороны, создает для читателя (и слушателя песен барда) возможность «взгляда на себя со стороны», а с другой - позволяет автору воссоздать перевернутый, карнавальный мир, сигнализирующий об аномальности мира реального.
В. с. высоцкий, фольклорность художественного произведения, карнавальный мир, персонаж, мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/148316517
IDR: 148316517 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Отрицательный фольклорный персонаж в поэзии В. С. Высоцкого
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений тезис В. В. Бакина о том, что «Высоцкий — это крупное художественное явление, требующее к себе научного отношения» [1, с. 655]. В настоящее время изучение наследия В. С. Высоцкого переживает расцвет, о чем свидетельствуют многочисленные научные статьи, монографии и диссертационные исследования последних лет1.
-
1 Бобина А. Г. Идиостиль Владимира Высоцкого: субъектная структура и хронотоп : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. М., 2013. 227 с.; Гавриков В. А. Лесковские традиции народной этимологии в творчестве В. С. Высоцкого // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 3. С. 103-110; Карпенко А. Маг черно-белой эпохи: о Владимире Высоцком // Зинзивер. 2014. № 4 (60); Кулагин А. В. Поэзия Высоцкого: творческая эволюция. Воронеж: Эхо, 2013. 230 с.; Митина А. А. Фразеологизмы в поэзии В. С. Высоцкого как фактор формирования языковой личности: дис.... канд. филол. наук: 10.02.01. Рязань, 2015. 236 с.; Новиков В. «Все не так, ребята…»: Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег // Знамя. 2017. № 9; Сенкевич Г. А. Социальные мотивы в творчестве Владимира Высоцкого // Человек в мире культуры. 2015. № 3. С. 31-35; Сипкина Н. Я. «Военные» баллады в поэзии Р. Рождественского и В. Высоцкого (сравнительная поэтика стилей поэтов) в контексте литературного процесса 1970-х гг.: основные тенденции развития // Вестник КемГУ.
2016. № 2 (66). С. 210–215; Солдаткина А. В. Гротеск в поэтике В. Высоцкого и В. Маяковского // Известия ВГПУ. 2013. № 6 (81). С. 115–119.
Исследователи уже отмечали, что в поэтике Высоцкого мифо-фольклорный пласт занимает значительное место [4; 5; 6]. Данная статья посвящена рассмотрению отрицательного фольклорного персонажа в поэтической интерпретации В. С. Высоцкого. Объектом нашего внимания стали те произведения поэта, в которых создается особый карнавальный мир, где леший может стать алкоголиком, а Кощей Бессмертный — несчастным влюбленным. Эти метаморфозы отрицательных персонажей фольклора обретают в стихотворениях Высоцкого глубокое символическое значение.
Так, в стихотворении «Запретили все цари всем царевичам…» (1967) иронически обыгрывается так называемый «еврейский вопрос». Очевидно, что под маской «злых царей» поэт прячет официальную власть, а «царевичи» символизируют рядовых советских граждан. Евреи в стихотворении Высоцкого обретают статус фольклорных персонажей за счет приема троекратности — речь идет о трех еврейских семьях (Гуревичи, Рабиновичи и Шифманы), в каждой — «три дочки, три сестры, три красавицы», с которыми связан фольклорный мотив сватовства царевичей.
О том, что мир текста каранавально перевернут, свидетельствует мотив навета: «опасаясь за царевичей», цари объявляют ни в чем неповинных дочерей Гуревича ведьмами и сжигают их. Теперь та же участь грозит дочерям Рабиновича, на которых переключили свое внимание царевичи. Однако тройная цепочка мотивов сватовства (Гуревичи — Рабиновичи — Шифманы) неожиданно обрывается автором: «Ну, а Шифманы смекнули — и Жмеринку // Вмиг покинули, — махнули в Америку» [2, с. 477]. Поскольку в советском массовом сознании «Америка» прочно ассоциировалась с «чужим» пространством, практически с загробным миром, в подтексте возникает уже не комический, а трагический контекст темы судьбы еврейского народа.
Обращаясь к сказочным мотивам, В. С. Высоцкий создает «антисказки». Такое определение дает сам автор в подзаголовке к песне «Лукоморья больше нет. Антисказка» (1967). Здесь Высоцкий ломает пушкинский сказочный мир, что заявлено уже в названии. Хронотоп и персонажи в песне остаются пушкинскими, но сюжет кардинально изменился и тяготеет, скорее, к фольклорному жанру «страшилок». В сказочных персонажах Высоцкого нетрудно угадать типические черты советского обывателя. Леший пьет и бьет свою жену Лешачиху «из-за рубля». Русалка родила от полка, а замуж вышла за Колдуна, потому что никто теперь с чужим ребенком не возьмет: «И пошла она к ему как в тюрьму» [2, с. 134]. Добрый молодец «Бабку Ведьму подпоил, // Ратный подвиг совершил, дом спалил» [2, с. 132]. Высоцкий далеко не случайно обращается к образам фольклорных персонажей, погружая их в современное бытовое пространство. Подобное «остранение» делает зло, которое воплощают отрицательные фольклорные герои, чем-то обыденным, постоянно присутствующим в жизни человека, что само по себе аномально.
В «Антисказке» Высоцкого добрый молодец становится злодеем, так же, как поэт в стихотворении «Препинаний и букв чародей» (1975), названный «лиходе-
ем». Черный юмор здесь сменяется горькой иронией. Поэт, создающий «горькие личные, // В мире лучшие строки», в глазах обывателя — чародей, лиходей, колдун, то есть вполне отрицательный персонаж, что опять-таки говорит о перевернутости ценностной шкалы этого мира.
В песне «Куплеты нечистой силы» (1974), написанной для кинофильма «Иван да Марья» (1974, реж. Б. Рыцарев), так же, как и в «Антисказке», фольклорные персонажи обытовлены. Бабе-Яге «надоело по лесу гонять», свои черные обязанности она исполняет плохо, как нерадивая хозяйка («зелье переварила»). Поэтому она не страшна так, как фольклорная, являющаяся символом зла. Оборотень, изображенный в песне, также не страшен, а, скорее, жалок: «Хотел превратиться в дырявый плетень, // Да вот посередке запнулся» [2, с. 685]. Лешего с Водяным и вовсе перестали уважать. Например, Водяному собственная квартира надоела: там «мокро и сыро»; вот и лежит он, «злой и простуженный», «под корягой». Утопленники его «пяткой по рылу» бьют, не давая ему исполнять свои «прямые обязанности». Лешего предают свои же: Лешачиха «на мороз прогнала», «лишив лешевелюры», и с Водяным «шуры-муры» крутит. Сам В. С. Высоцкий так комментировал свое произведение: «На мои песни легла нагрузка: все время осовременивать, делать взаимоотношения узнаваемыми. Нечистая сила в фильме должна была выглядеть как хулиганы…» [3, с. 3]. Как видим, поэту удалось осуществить задуманное: сказка получилась вполне современной и обыватели легко могли узнать себя в фольклорных образах.
В последние годы в тестах Высоцкого одним из частотных становится образ черта, который демифологизируется, подобно другим представителям «нечистой силы» у поэта. Черт у Высоцкого — это более человек, чем «злой дух». Как утверждает Е. В. Купчик: «Такой подход автора к нечистой силе сродни тем народным представлениям о ней, которые отражены в славянском фольклоре, где злой дух в своем материальном воплощении скорее забавен, чем страшен» [6, с. 94]. В стихотворении «Слева бесы, справа бесы» (1979) в образе злых духов аллегорически обозначены люди: «Эти — с нар, а те — из кресел, — // Не поймешь, какие злей» [2, с. 619]. А. В. Кулагин сравнивает данное стихотворение с пушкинским «Мчатся тучи, вьются тучи» [5, с. 22]. Высоцкому так же, как и Пушкину, важен образ лирического героя и людей, которые его окружают. Центральным в стихотворении Высоцкого становится мотив блуждания: «И куда, в какие дали, // На какой еще маршрут // Нас с тобою эти врали // По этапу поведут?» или «Что искать нам в этой жизни?» [2, с. 619-620].
Слишком конкретно и отчетливо здесь проступает социальное зло, присущее эпохе Высоцкого. Социальная тема подчеркнута бодрой «физкультурной» цитатой из «Спортивного марша» В. Лебедева-Кумача («Ну-ка, солнце, ярче брызни!»), известного и значимого в советское время. Стихи Высоцкого — о социальном и душевном тупике, выход из которого один — напиться до чертиков («Пей, дружище, если пьется»). Похоже, что и бесы в начальных строках — это всего лишь фантазия пьяного: «Слева бесы, справа бесы. // Нет, по новой мне налей!». Так, трагедия одного человека оборачивается трагедией целого поколения. Финальная фраза лирического героя «Со святыми упокой…» звучит горькоиронически, довершая мрачную картину созданной в стихотворении реальности.
Итак, поэзия В. С. Высоцкого — это, помимо всего прочего, активный диалог с фольклорной традицией. При этом поэт не обращается к стилизации, не стремится полностью раствориться в фольклорной стихии, но «внедряет» фольклорный материал в современную ему реальность, сохраняя дистанцию между собственной и фольклорной темой. Дистанция выдерживается за счет деавтоматизации жанра, демифологизации образа, трансформации сюжетных ситуаций, что придает текстам Высоцкого трагикомический эффект. Обращаясь к образам отрицательных фольклорных персонажей, поэт использует прием «отстранения», изображая зло как нечто обыденное для современного мира.
Список литературы Отрицательный фольклорный персонаж в поэзии В. С. Высоцкого
- Бакин В. В. Неизвестный Высоцкий. Жизнь после смерти / В. В. Бакин. Москва: Эксмо, 2011. 687 с.
- Высоцкий В. С. Собрание сочинений в одном томе / В. С. Высоцкий. Москва: Э, 2017. 922 с.
- Высоцкий В. С. Монологи со сцены / В. С. Высоцкий. Харьков: Фолио, 2000. 208 с.
- Копылова Н. И. Фольклорная ассоциация в поэзии В. С. Высоцкого / Н. И. Копылова // В. С. Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С. 74-95.
- Кулагин А. Бесы и Моцарт. Пушкинские мотивы в поздней лирике Владимира Высоцкого / А. Кулагин // Лит. обозрение. 1993. № 3/4. С. 22-25.
- Купчик Е. В. Бог и дьявол в песнях В. Высоцкого / Е. В. Купчик // Славянские духовные традиции Сибири. Тюмень, 1999. 187 с.