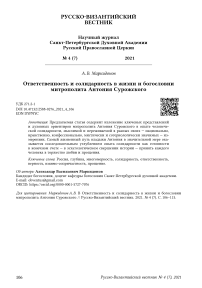Ответственность и солидарность в жизни и богословии митрополита Антония Сурожского
Автор: Маркидонов Александр Васильевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Памятные даты России. К 100-летию русского исхода (1920-2020)
Статья в выпуске: 4 (7), 2021 года.
Бесплатный доступ
Предлагаемая статья содержит изложение ключевых представлений и духовных ориентиров митрополита Антония Сурожского в опыте человеческой солидарности, мыслимой и переживаемой в разных своих - национально, нравственно, конфессионально, мистически и сотериологически значимых - измерениях. Самый жизненный путь владыки Антония в значительной мере оказывается последовательным углублением опыта солидарности как готовности в конечном счете - в эсхатологическом свершении истории - принять каждого человека в торжество любви и прощения.
Россия, глубина, многомерность, солидарность, ответственность, верность, взаимо-сопричастность, прощение
Короткий адрес: https://sciup.org/140294120
IDR: 140294120 | УДК: 271.2-1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_4_106
Текст научной статьи Ответственность и солидарность в жизни и богословии митрополита Антония Сурожского
Митрополит Антоний (в миру Андрей Борисович Блум) родился в Лозанне перед самым началом Первой мировой войны. После начала войны семья переехала в Москву и проживала некоторое время «у родственников Скрябиных в Большом Николопесковском переулке, где теперь музей А. Н. Скрябина»1. Уже примерно через год, в 1915-м, Борис Эдуардович Блум был назначен русским консулом в Персию. Так что, как говорил сам владыка Антоний, — «самое раннее детство я провел в России,
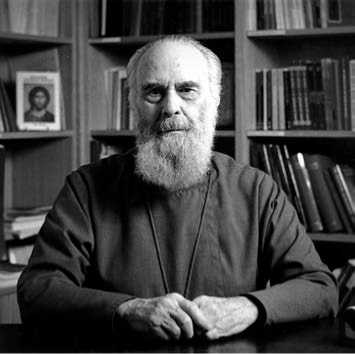
Митрополит Антоний (Блум)
хотя я не помню этого, но я дышал русским воздухом»2.
В 1921 г., после окончательного крушения русской государственности, семья переехала в Европу, где с 1923 г. остановилась во Франции. Начались тяготы — полуголодного, а иногда и унизительного для многих — эмигрантского существования. Но не это было главным как для отца, так и для сына. Отец как-то сказал Андрею: «Ты запомни: жив ты или мертв — это должно быть совершенно безразлично тебе, как это должно быть безразлично и другим; единственное, что имеет значение, это ради чего ты живешь и для чего ты готов умереть»3.
Для самого Бориса Эдуардовича Блума ответом на это «ради чего» было — ради России. России, доведенной до катастрофы, отданной на попрание безбожной власти.
«Мой отец, — вспоминал митр. Антоний, — жил в стороне от нас, он занял своеобразную позицию: когда мы оказались в эмиграции, он решил, что его сословие, его
социальная группа несет тяжелую ответственность за все, что случилось в России,
и что он не имеет права пользоваться преимуществами, которые дало ему его воспитание, образование, его сословие. И поэтому он не стал искать никакой работы, где мог бы использовать знание восточных языков, свое университетское образование, западные языки, и стал чернорабочим. И в течение довольно короткого времени он подорвал свои силы, затем работал в конторе и умер пятидесяти трех лет»4.
Может быть, именно «тяжелая ответственность» за случившееся в России понуждала Бориса Эдуардовича крайне ограничить себя даже в общении с родными и близкими. «И он жил один, — говорил владыка Антоний, — в крайнем убожестве, молился, молчал, читал аскетическую литературу и жил действительно совершенно один, беспощадно один, я должен сказать. У него была малюсенькая комнатушка наверху высокого дома, и на двери у него была записка: „Не трудитесь стучать; я дома, но не открою“. Помню, как-то я к нему пришел, стучал: „Папа, это я!“ Нет, не от-крыл»5. А как это должно было быть больно юному Андрею6, которому надлежало в недоступности отца как будто опознавать и переживать также и недосягаемость отечества. Отказаться же как от одного, так и от другого было для него немыслимым в уже очень ранние годы. «Когда я был 11-летним мальчиком, — вспоминал владыка Антоний, — меня спросили, почему я не хочу просить родителей получить для меня французское гражданство, я сказал, что предпочитаю умереть в России, скорее чем оставаться живым вне ее»7.
В 14 лет Андрей Блум становится участником русской организации «Витязи». «Организация эта, — рассказывал владыка Антоний, — была пламенно русская, национальная, нас готовили быть русскими до самых глубин, знать язык, его любить, его понимать, знать русскую историю, знать русскую словесность, ценить все, что является русским. <…> Нас учили жить для России, узнавать о ней все, что только можно узнать, полюбить ее не только сердцем и умом, но готовностью жизнь отдать. Нас учили тогда военному строю — с тем, чтобы мы могли рано или поздно вернуться в Россию, ее освободить от коммунистического ига»8.
В свою очередь, о. В. Зеньковский в своих воспоминаниях отмечает: «„Витязи“ (говорю, конечно, о старшей группе) принадлежали уже к тому поколению, которое вырастало в эмиграции. Хотя витязи наши искренне и глубоко жили идеей России, но они сами не пережили трагедии России, как их переживало первое поколение движенцев, — поэтому в самих себе, в своей духовной глубине они не имели трагического опыта, т. е. не имели той огненной закалки, которой так отмечена была душа старших движенцев. Витязи были, так сказать, „патриотичнее“, т. е. больше связаны с мыслью о восстановлении мощной, великой России — но никакого личного „перелома“, никакого сознания, что все виноваты в трагедии России, они не имели…»9
В 1934 г. большая часть «Витязей» под началом Н. Федорова выделилась из «Русского студенческого христианского движения» (РСХД) и была сформирована в самостоятельную «Национальную организацию витязей». «В итоге, — как отмечает Н. В. Ликвинцева, — при общем лозунге „лицом к России“ <…> РСХД ратовало за внутреннюю, церковную и культурную связь, „витязи“ стремились к патриотическому воспитанию, проявляющемуся в более внешних формах политического и национального сознания. Юный Андрей Блум <…> сделал безошибочный, почти интуитивный выбор, проявив верность тому Движению, в котором уже состоял: „Я потом сказал Николаю Федорову, что я не считаю возможным уйти из РСХД, примыкая к нему. И мы тогда расстались“».10
Позволим себе предположить, что такой выбор — обобщенно говоря, более одухотворенного, нежели только национально-политического понимания своего служения России — стал для Андрея органичным еще и в силу происшедшего с ним раньше религиозного обращения. Ведь еще в канун этого события — встречи со Христом — Андрей остро переживает контраст между его патриотически настроенной воинственностью и образом христианского смирения, как оно виделось глазами этой воинственности. «Нас готовили к тому, — рассказывал владыка Антоний, — чтобы, если нужно, ценой нашей жизни, с оружием в руках освобождать Россию, а он (священник во время беседы. — А. М. ) нам говорил о том, что Христос — образ смирения, образ любви, образ беззащитности… И меня это все больше и больше возмущало»11.
Только живое присутствие Христа, открывшееся Андрею в чтении Евангелия, переворачивает его душу. Затем, вспоминал владыка Антоний, «я открыл книгу наугад и попал на место в Евангелии от Матфея, где говорится, что Бог Свое солнце светит на добрых и на злых (Мф 5:45), т. е. равно, без различия, не откидывая одних и принимая других. Я тогда остановился в изумлении. Это опять-таки было поворотным моментом в моей жизни. <…> К четырнадцати годам я пришел к заключению, что человечество — как джунгли, что всякий человек — как дикий зверь, который тебя разорвет, если только ты не умеешь защититься. О любви никакой речи не было, кроме как семейной любви. Жизнь — это область ненависти, грубости, беспощадности, в которой можно остаться живым, только если стать бесчувственным, окаменелым. И вдруг я вижу, что Бог любит всех без различия, добрых и злых. Я долго сидел в раздумье и потом, помню, сказал себе: если я хочу быть с Богом, то я должен научиться любить тех, которые меня будут мучить, терзать, разрушать… Мне не представилось, что это дело легкое, но мне представилось так: если я хочу быть учеником Христа, если я хочу быть учеником Бога, то у меня выхода другого нет»12.
Так вся проблематика верности и служения России обретает новое освещение13. Национально-политическое в ней, в его изначальной воинственности, получает подчиненное — и как бы неокончательное — положение, не отступая при этом в область безразличного , не сглаживая остроту исторического выбора и уж тем более не отменяя самый этот выбор. Теперь это означало: быть верным России изнутри своей сопричастности Христу и Его Церкви; более того, конкретно-исторически эта верность России совпала с церковностью , в ней наиболее полно выразилась и воплотилась, т. к. то была — Русская Церковь Московского Патриархата.
«Я принадлежу к поколению, — говорил митр. Антоний, — которое избрало верность Русской Церкви в момент ее гонения, в момент, когда быть верным Русской Церкви в эмиграции считалось политической изменой. Многие тогда испугались при мысли, что через Церковь советское правительство, советская власть может овладеть эмиграцией — не вещественно, а духовно. Громадное большинство эмиграции и в Европе, и в других частях мира избрало отпадение от Русской Церкви. Во Франции, где я тогда жил, всего около сорока человек остались верными Русской Церкви в Париже и десяток — на юге Франции. И многие из нас были тогда отвергнуты самыми близкими своими друзьями, как изменники борьбы с коммунизмом. Мы же считали, что мы хотим неразлучно оставаться едиными с мученической Церковью, с каждым человеком, который в России несет бремя своей веры и гонения. <…> И самые близкие нам друзья иногда выкидывали нас из своих домов, потому что мы остались верными Церкви Российской. Таково было мое положение и положение многих. И мы тогда создавали хоть маленькие приходы, но которые оставались верными и родной Церкви, и родному народу, и родной земле Российской. <…> В тогда гонимой Русской Церкви мы встретили понимание, которого часто эмиграция потом не сумела показать родной Церкви. Мы тогда сумели отстоять нашу политическую и человеческую свободу и одновременно быть свидетелями того, что мы неразлучно едины с теми, которые в страшном плену в Советском Союзе. Я помню, как еще в 1930-х гг. к нам обратился митрополит Крутицкий с просьбой поддержать не помню какое начинание Русской Церкви, которое нам показалось сомнительным с политической и нравственной точки зрения. Мы отказались наотрез и получили в ответ его благословение. Такие же проблемы вставали и позже, и позже также мы получали от Русской Церкви плененной, которая при этом рисковала очень многим — жизнью своих членов, — благословение на свободу. Поэтому наша Сурожская епархия была и останется верной Русской Церкви до конца»14.
Принадлежность Русской Православной Церкви при соблюдении, в каждый конкретный момент истории, своей свободы от навязываемой этой Церкви политической конъюнктуры — таков был нравственно-религиозный и исторический, одновременно, выбор митр. Антония. Такой выбор позволял, — пребывая в неотчужденности от родины духовно, но также отчасти и физически (по факту канонической сопричастности Русской Церкви), — превозмогать, казалось бы, непроглядную сплошность, одномерность тоталитарно скованного общества, различать в нем прослойки и очаги духовной неоднородности и с нею — возможность духовной жизни или, по крайней мере, духовного пробуждения.
Верность, ответственность, солидарность, обращенные к России, — в очах веры, изнутри сопричастности Христу и Евангелию, — приобретают новое качество, новое измерение и дотоле немыслимую полноту.
Это новое качество и новое измерение, — например, солидарности, — при всей ее нравственной, социальной, политической или даже конфессиональной значимости, — открываются и в своей метафизической и духовной, в строгом смысле, глубине.
«Когда в Писании, — как отмечает владыка Антоний, — говорится, что сердце человеческое глубоко (Пс 63:7), речь идет о той глубине, которая не умещается в геометрию, которая есть третье измерение — вечности и безмерности, это есть собственное измерение Бога. И поэтому, когда человека возносят на алтарь, чтобы ему поклоняться только как историческому существу, живущему в пространстве и во времени, оказывается, что в нем поклоняться нечему. Он может быть большим, он может перерасти самого себя. Он может стать одним из тех великолепных идолов, о которых мы знаем из истории ранних цивилизаций, но он никогда не обретет величия, потому что величие не определяется размером. Только в том случае, если человек имеет это третье измерение, невидимое, неосязаемое — измерение глубины и содержания, бесконечности и вечности, — только тогда человек больше, чем видимое, и тогда даже в унижении своем он становится великим. Даже будучи побежденным, он может быть больше, чем тот, кто его по видимости победил»15.
Эта глубина, восходящая к сокровенному мистическому источнику, проявляется и дает о себе знать и в простых, доступных или, по крайней мере, известных формах человеческого опыта и сознания, а именно — в их многомерности, на которую нередко обращает внимание митр. Антоний. «На войне, — вспоминает он, — была все-таки какая-то доля опасности, и поэтому сознание, что ты действительно в руках Божиих, доходит иногда до очень большой меры. Попутно делаешь всякого рода открытия: о том, что ты не такой замечательный, что есть вещи гораздо важнее тебя; о том, что есть разные пласты в событиях. Есть, скажем, пласт, на котором ты живешь и тебе страшно или какие-то еще чувства одолевают тебя, а есть помимо этого еще какие-то два пласта: выше, над тобой — воля Божия, Его видение истории, и ниже — как течет жизнь, не замечая событий, связанных с твоим существованием. Помню, как-то я лежал на животе под обстрелом, в траве, и сначала жался крепко к земле, потому что как-то неуютно было, а потом надоело жаться и я стал смотреть: трава была зеленая, небо голубое, и два муравья ползли и тащили соломинку, и так было ясно, что вот я лежу и боюсь обстрела, а жизнь течет, трава зеленеет, муравьи ползают, судьба целого мира длится, продолжается, как будто человек тут ни при чем…»16
Скрытое присутствие в нашей жизни глубинных слоев человеческой, а также и выше-человеческой реальности может сказываться, обнаруживать себя в самом различном опыте. Владыка Антоний не устает нам об этом напоминать и указывать на это. Вот несколько примеров.
«Иоанн Кронштадтский, — говорит митр. Антоний, — писал в своем дневнике, что есть души настолько хрупкие, что они не могли бы осуществить себя в столкновениях с окружающим жестоким и разрушающим миром; и порой Бог набрасывает пелену, которая разделяет человеческую душу от мира помрачением ума, безумием — так, что человек отделен. <…> И за этой пеленой душа зреет и меняется, и человек растет. Это место мне особенно запомнилось, потому что я это видел на самом деле. Много лет тому назад, когда я еще был врачом во Франции, был в нашей среде выдающийся иконописец, и он начал сходить с ума. <…> Он около года провел в больнице, он кощунствовал, бился, был совершенно невменяем, нельзя было войти с ним ни в какой контакт. А потом вдруг он пришел в себя. И когда он вышел из больницы, исцеленный благодаря медицинской помощи, оказалось, что с ним случилось то, о чем говорил Иоанн Кронштадтский: еще не опытный, еще не вполне созревший, хотя очень одаренный, художник вышел из больницы зрелым иконописцем, каким не был раньше»17.
Владыка Антоний любил также припоминать и такой случай: «Когда мы стали учить детей русским песням, одна девочка подошла ко мне и сказала: „У меня всегда было чувство, что что-то в моей душе спит; с тех пор, как мы начали петь песни на русские мотивы, случилось, будто чья-то рука коснулась дремлющих струн моего сердца, и оно все запело“»18.
Для митр. Антония подобный опыт свидетельствовал о духовно-онтологически мыслимой глубокой солидарности человеческой души с душами людей предшествующих поколений. Может быть, в этом случае позволительно было бы говорить об изначальной соборности самой человеческой природы, раздробленной грехом, но сохраняющей печать взаимной сопричастности — память о целом. Поэтому особенно болезненно переживалось владыкой Антонием пренебрежение, а то и сознательное отпадение от этой целостности, этой взаимо-сопричастности в конкретной церковной практике, среди христиан, объединенных настоящим временем. Так, в слове на память прот. Петра Струве митр. Антоний говорит: «…Когда постигает радость или горе, Церковь зовет нас принести скорбь ли, ликование ли наше пред лицо Божие. Служатся панихиды, служатся молебны, и так бывает печально и больно, когда то или другое воспринимается как частное дело, настолько частное, что другие люди должны быть из этого исключены; как делается жутко, когда человек говорит: „Я хочу панихиду, только ни о ком не молитесь, кроме как о моих родных!“ Разве это не значит: в этот момент молитвы я всех хочу исключить из молитвы, из Божия присутствия, из любви. Так же бывает печально, когда у человека радость или горе и служится молебен, а все уходят: кому какое дело? Молится же чужой человек! Я его даже не знаю! А если знаю, это его нужда, его радость, его скорбь, его благодарность — не мои! <…> Разве не страшны такие черты в Церкви Христа, который нас призвал быть так едиными, как Он един с Отцом, как Троица едина?!»19
Было бы опрометчиво, однако, в отношении к этой теме — многомерной солидарности — у митр. Антония подбирать для нее какие-либо психоаналитические аналогии. Да, мы сказали, что речь идет об онтологическом истолковании солидарности. Но это онтология духовная: в конце концов, в последней глубине именно нравственнорелигиозные, сотериологические характеристики имеют для нее определяющее значение. Поэтому животворным лоном, а также и мерой подлинной человеческой солидарности выступает у митр. Антония священная история. Так «родословная Христова, — говорит владыка, — имеет очень большое значение. Это не только воспоминание о том, кто были предки Его, это воспоминание о том, как с момента сотворения мира, и несмотря на падение, один род после другого оставался верным Богу, и одно поколение после другого, несмотря на греховность, посвящало себя вновь и вновь Богу. И в этом процессе каждое поколение в себе очищало нечто из той греховности, которая легла на все человечество в момент, когда наши прародители отвернулись от полноты богообщения и погрузились отчасти в тварность, оставаясь, однако, почитающими, поклоняющимися Богу. <…> И когда это постепенное очищение через веру, через преданность, несмотря на человеческую слабость, Живому Богу дошло до предела такой чистоты, которую мы видим в Иоакиме и Анне, в родителях Божией Матери, — могла родиться Мать воплощенного Сына Божия. Все поколения в Ней могут себя видеть, какими Бог их хотел, могут видеть свою незыблемую красоту, освобожденную от греховности, которая лежала на их плечах.
И родилась Дева Богородица без пятна, без порока не потому, что Бог чудом, односторонне как бы действуя, Ее очистил от всякой греховности, а потому, что все человечество тысячелетиями очищалось из поколения в поколение, готовя Богу сосуд Воплощения. Как это дивно и как это значительно! Потому что в лице Божией Матери весь мир участвует своей тоской по Богу, своей устремленностью к Нему, своим подвигом очищения, своим покаянием — там, где очищение не удается, участвует в рождестве Пресвятой Богородицы и через Нее — в воплощении Сына Божия. Это так дивно: весь мир участвует в этом чуде. Это не нечто, что произошло где-то, в закоулке истории и географии, это труд, это подвиг всего человечества»20.
Как уже можно было заметить из ранее приведенных примеров, эти свидетельства о глубинной солидарности и сопричастности людей, коренящейся в изначальной основе их духовного устроения — соборности, имеют для митр. Антония в первую очередь не собственно психологическое или философское, или даже отвлеченно богословское, но — пастырское значение и пастырское применение. «Каждый из нас, — говорит владыка Антоний, — является наследником всех предыдущих поколений, каждый из нас несет в себе и светлое, и темное прошлое этих поколений, и каждому из нас доверено будущее, потому что в зависимости от того, очистим ли мы наше наследие или усугубим его греховность, или оставим его нетронутым, мы оправдаем или не оправдаем то или другое лицо в нашем прошлом.
Мне вспоминается встреча с одним человеком, который мне сказал: „Я не могу понять, что со мной делается: во мне поднимаются такие-то и такие-то искушения. Они мне совершенно жизненно чужды, я не понимаю, откуда мне приходят эти мысли, эти чувства. Что мне с ними делать?“ Я тогда этому человеку посоветовал: „Сядьте и попробуйте вспомнить одного за другим своих близких и дальних предков и поставьте перед собой вопрос: нет ли среди них такого, в котором качествовало то, что Вас сейчас мучает, или озадачивает, или старается осквернить?“ Этот человек через некоторое время пришел ко мне и сказал: „Знаете, я задумывался и вдруг вспомнил одного из своих близких предков, в котором жили все искушения, которые сейчас меня разрывают и которые мне лично чужды. Я уверен, что я их унаследовал. Что мне делать?“ — „Победить! Если вы победите их в себе, то вы освободите своего предка от его греховности“. Прошло время, и этот человек ко мне пришел и сказал: „Я боролся молитвой, подвигом, верой, криком к Богу, любовью к этому человеку, и вдруг все это прошло. И мне стало ясно, что я победил — не для себя, потому что это были не мои искушения, но для этого человека“.
Так может задуматься любой человек, если, посмотрев на себя, увидит, что есть в нем греховные поползновения, которые явно принадлежат ему, а есть такие, которые его делают как бы наследником других людей. И надо тогда бороться изо всех сил, для того чтобы победить не только собственную греховность, но и унаследованную. Но надо помнить тоже, что мы являемся наследниками не только греховности, что мы можем с благодарностью, с благоговением, с любовью, с нежностью думать о тех предках наших, которые передали нам такое богатство! Это может быть ум, это может быть чуткость, это может быть любовь, это может быть мужество, все добродетели, вся красота человеческая, которая в нас может быть хотя бы зачаточно, — и их благодарить за это»21.
Таким образом, солидарность, уходящая корнями в горнило истории, также как и вглубь человеческой души в ее соборном устроении, — эта солидарность двояка: благодарность сопряжена в ней с ответственностью, с готовностью понести бремя чужих грехов, а в конце концов и принять другого в его предельной инаковости нам.
«Насколько далеко, — вопрошает митр. Антоний, — мы можем идти в переживании окончательной, всецелой, безусловной солидарности с теми, кто отрицает существование самой возможности этого измерения величия и глубины („измерения Бога“. — А. М. )? В свое время апостол Павел, говоря об иудеях, был готов на отлучение от лица Божия, если бы через это мог быть спасен весь народ Божий (Рим 9:3). Не можем ли мы пойти еще дальше и вместе со Христом, а не против Него, вместе с Богом, а не против Него сказать: „Пусть наша жизнь будет выкупом за жизнь мира“? И когда я говорю „жизнь мира“, я не имею в виду временное существование, но всеобщую судьбу человечества. Можем ли мы достичь такой готовности, чтобы взять на себя предельный риск солидарности: или вместе быть спасенными, или вместе все потерять? У христианина не может быть иного подхода к вещам, кроме Христова…»22
В трагедии разлада чаще держатся одной из сторон, чтобы изобличать и обвинять другую; редко — переживают вину и принимают ответственность за самое размежевание, чтобы оставалась возможность воспринять в глубину окончательной солидарности и противоположную сторону.
Перед засильем и безысходностью зла, говорит один из героев Достоевского, «одно тут спасение себе: возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся виноват»23.
Солидарность со всеми, готовность принять их перед лицом конечных свершений, на последнем пределе, уже достигшем нас в Церкви Христовой, — не парализует воли к историческому выбору, но включает в этот выбор — как ответственность за другого — и возможность прощения. «И прощенье торжествует, как победу над врагом…» (А. С. Пушкин).
Об этом «торжестве прощения» как о последнем смысле и окончательном свершении человеческой ответственности и солидарности митр. Антоний говорит: «Мне сейчас вспоминается один отрывок из книги русско-грузинского писателя <…> Чавча-вадзе. Он написал книгу <…>, где рассказывает, как один эмигрант-священник, который всю жизнь боролся с коммунизмом, всем своим существом отрицал и отрекался от Сталина, вдруг узнал о его смерти. И в первую минуту он подумал: „Наконец!“ А потом подумал: „Боже! Он сейчас стоит со всем грузом своих грехов перед Судом Божиим. Какой ужас!“ И он бросился в церковь, преклонился перед алтарем и начал кричать перед Богом: „Помилуй его, помилуй его, дай мужество его жертвам простить, чтобы Ты мог его помиловать!“
И только тогда Царство Божие открывается. Но это чудо взаимного примирения, которое Бог не может насильственно нам навязать. Он только может нам сказать: „Взгляни на Мои руки, взгляни на Мои ноги, взгляни на рану от копья в Моем боку, взгляни на раны, которые терновый венец наложил на Мой лоб. Я тебя возлюбил до такой степени и таким образом тогда, когда ты был Мне чужд. Посмотри на своего брата, на свою сестру, на свое чадо, на людей, которые вокруг, которых ты ранил или которые тебя ранили. Вы можете или оба войти в Царство Божие, или оба останетесь вне“. И это так дивно! Так дивно, что мы войдем в Царство Божие не по праву или несмотря на то, что мы были чужды друг другу, а потому, что у врат в Царство Божие мы друг друга примем, обымем и вместе вступим»24.
Список литературы Ответственность и солидарность в жизни и богословии митрополита Антония Сурожского
- Антоний (Блум), митр. Труды. Кн. 1. М., 2002.
- Антоний (Блум), митр. Труды. Кн. 2. М., 2007.
- Антоний (Блум), митр. Труды. Кн. 3. М., 2019.
- Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. М., 1958. Т. 9.
- Зеньковский В. В., прот. Из моей жизни: Воспоминания. М., 2004.
- Каррас К. Живая епархия в служении Богу Живому // Церковь - Богочеловеческое общество: Материалы Третьей международной конференции 23-25 сентября 2011 г. М., 2013.
- Ксения (Соломина-Минихен), мон. Господь любит нас огненной любовью: О владыке Антонии, митрополите Сурожском. М., 2015.
- Кырлежев А. Митрополит Антоний Сурожский: «Я предпочитаю умереть в России, скорее чем оставаться живым вне ее…» URL: http://www.religare.ru/2_6219.html (дата обращения: 20.05.2022).
- Ликвинцева Н. В. От отца к сыну: трагедия России в опыте семьи и детско-юношеских встречах будущего митрополита Антония Сурожского: Доклад на Международной конференции «.,Из бывшей России в будущую“: опыт ответственности за страну в русской эмиграции и современной России» (Воронеж, 2017 г.).