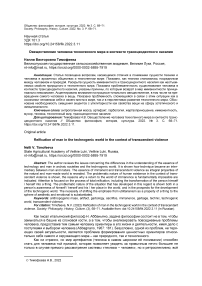Овеществление человека техногенного мира в контексте трансцендентного насилия
Автор: Тимофеева Нэлли Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам, касающимся отличия в понимании сущности техники и человека в архаичных обществах и техногенном мире. Показано, как техника становилась посредником между человеком и природой. Раскрыта сущность имманентного и трансцендентного насилия как неотъемлемых свойств природного и техногенного мира. Показана проблематичность существования человека в контексте трансцендентного насилия, указаны причины, по которым возврат в мир имманентности принципиально невозможен. Акцентировано внимание на процессе тотального овеществления, в том числе на превращении самого человека в вещь. Показана проблемность сложившейся в связи с этим ситуации как в осознании человеком себя и своего места в мире, так и в перспективах развития техногенного мира. Обоснована необходимость смещения акцентов с утилитарности как свойства вещи на сферу эстетического и эмоционального.
Антропогенная масса, артефакт, гарбология, жертвоприношение, имманентность, мусор, техника, техногенный мир, трансцендентное насилие
Короткий адрес: https://sciup.org/149139907
IDR: 149139907 | УДК: 101.3
Текст научной статьи Овеществление человека техногенного мира в контексте трансцендентного насилия
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, Великие Луки, Россия, ,
State Agricultural Academy of Velikie Luki, Velikie Luki, Russia, ,
Как писал итальянский философ Н. Аббаньяно, задача философии состоит не в том, чтобы замыкаться в башне из слоновой кости, а в том, чтобы анализировать повседневные проблемы человека, предоставив тем самым человеку ориентиры в его жизни и деятельности, имея дело с поступками и выбором человека (Abbagnano, 1967: 181). Безусловно, одной из проблем, не теряющих своей актуальности, является проблема формирования ценностных ориентиров относительно себя самого и окружающего мира – как природного, так и техногенного.
Как ни странно, но мир артефактов (техника в самом широком её понимании) способен стать для человека той призмой, которая позволяет увидеть за привычным нечто большее не только в случае прямого рассмотрения системы «техника – человек», но и ретроспективно, всё
больше отдаляясь от современного контекста. Такой ретроспективный взгляд, если разворачивать его в контексте, обозначенном ещё Ж. Батаем, способствует более глубокому пониманию целого ряда феноменов, среди которых «насилие» и «смерть».
Ж. Батай, исследуя архаичные общества, постулировал, что человек изначально был имманентен природе. О том же писала и Н.В. Попкова со ссылкой на А.М. Ковалёва, отмечая, что только с переходом к земледелию человек от приспособления к природе перешёл к «активному вмешательству в её процессы» (Попкова, 2019: 64). И даже появление техники часто связывают с имманентными потребностями человека. Вероятнее всего, в самом начале техника действительно появлялась в ответ на имманентные потребности в пище, тепле, защите, она ещё не была «замутнена другими факторами человеческого общества» (Аль-Ани, 2004: 49).
По этой причине сущность техники проявлялась только в самом акте изобретения как итог мысли человека, как умелое и красивое приспособление, но не как вещь, чьё назначение утилитарно. И даже при утилитарном применении техника концептуализировалась исключительно сакрально, как влияние духов или богов, склоняющих вещи к таким действиям, которые необходимы человеку.
Однако так продолжалось недолго, поскольку, в отличие от животного, человек «обладает способностью к творению и артификации» (Розин, 2006: 74). Проблема артификации заключается в том, что наращивание техногенного мира способно происходить помимо воли человека, когда, как писал Б.И. Кудрин, происходит «массовое порождение технического техническим» (Кудрин, 1998: 31). Чем больше появляется артефактов и чем больше человек начинает использовать их, полагая прежде всего в качестве орудий труда, тем больше они становятся посредником между человеком и природой, в результате чего человек перестаёт быть имманентен природе (Зыгмонт, 2015: 33).
Постепенно благодаря антропосоциогенезу стало обнаруживаться превосходство вещей над животным миром, а то, что вещью не являлось (растения и животные), приобретало новое утилитарное предназначение, изначально им чуждое. Но не только сельскохозяйственная продукция, даже сам хлебопашец низводился до положения вещи, плуга, орудия труда, используемого теми, кто питается хлебом. Тем самым человек вместе с созданными им артефактами становится разрывом в имманентности бытия.
Так по мере артификации в противовес природному миру формируется рациональный мир, мир вещей и людей, то, что называют также реальным миропорядком или профанным миром. Одним из свойств и того и другого мира является насилие. Несмотря на то, что насилие является общим свойством двух миров, Зейнеп Дайрек описывает две принципиально различные формы насилия: это имманентное (внутреннее), обращённое в том числе на самого себя, и трансцендентное, или насилие профанного мира, рациональное, целесообразное, обращённое на другого (Direk, 2004: 30).
Имманентное насилие в архаичных обществах, как описывает его Ж. Батай, было основано на избыточности жизни и проявлялось в виде взаимного пожирания и неутилитарной смерти (жертвоприношений). Растрата жизни в акте жертвоприношения представала не как способ выхода агрессии и не как попытка задобрить духов (богов), но как самоценное действие, через которое человек пытался освободить предметы и животных от «примысленного содержания, а именно вещности» (Зыгмонт, Дюков, 2017: 60) и вернуть в исконную имманентность миру и жертву, и жертвователя. В процессе жертвоприношения сам человек заявлял о непринадлежности к миру, лишённому мелочного расчёта, восходил к утраченному интимному.
В этом смысле принесение в жертву – не столько умерщвление или разрушение, сколько отречение, когда от уклада длительности (при котором потребление обусловлено заложенным в вещах запасом долговременности) происходит переход к расточительности. Расточительность – отличительная черта природного мира, который был настолько непроизводителен, позволяя жизни растрачивать саму себя, что сама смерть выступала как один из основных видов роскоши жизни.
Трансцендентное насилие рационального, техногенного мира, напротив, только усиливает утилитарность жертвы и жертвователя, независимо от того, выступает в качестве жертвы живое существо или артефакт. В этом смысле трансцендентное насилие выступает как псевдожертвоприношение, в котором сохраняется ритуал разрушения, но полностью утрачиваются представления об изначальной цели этих действий. Постепенно формируется утилитарное отношение буквально ко всему окружающему, самоценность сущностей утрачивается. Жизнь больше не включает в себя сакральную составляющую.
Кроме того, если имманентное насилие способствовало уничтожению вещности и возвращению человека к интимной близости с миром природы, то, согласно Ж. Батаю, именно трансцендентное насилие способствует усилению овеществления одних людей другими. Человек как свободный труженик сам превращается в вещь, в один из узлов по производству и потреблению вещей, пускай добровольно и на определённое время. Этот феномен в разное время был описан в разных терминах: «постав», «живой автомат», «отчуждение», «деперсонализация».
Чем больше человек попадает под власть техногенного мира, тем больше он отдаляется от самого себя, вовлекаясь в такой жизненный процесс, которым не в силах управлять и который внушает ему опасения. По этой причине начинает проявляться дуализм в устремлениях человека: одновременно сохранить и изжить миропорядок вещей. Ж. Батай предостерегал, что восхождение к утраченной имманентности может обернуться для вещного мира угрозой полного разрушения. Но поскольку в этом стремлении противостоять вещизму мир вещей не может быть искоренён целиком, то осознанно или неосознанно насилию, разрушению начинают активно подвергаться отдельные артефакты.
Происходит своеобразная насмешка над жертвоприношением в его исконном смысле, когда всё больше вещей наделяются качеством бесполезности (мусора), возможно, в надежде на то, что таким образом человек найдёт своё место в мире, лишённом мелочного расчёта. Однако надежды не оправдываются, и место одних артефактов занимают другие. Более того, при таком псевдожертвоприношении артефакт не выделяется из мира вещей, но приобретает статус «бесполезной вещи».
В мире имманентности, описываемом Ж. Батаем, бесполезное, неутилитарное как раз и означает самое ценное, «самоценное», когда в предмете уничтожается его вещность, но остаётся сущность. В отличие от этого в техногенном мире в процессе лишения предмета утилитарности не происходит ни полного уничтожения, ни возвращения к некоей изначальной, непривне-сённой человеком сущности, но продуцируется новая сущность, для которой пока нет названия. Судя по всему, это название так или иначе должно быть связано с понятием «garbage», некоей «мусорностью в потенции» как свойством всей антропогенной массы техногенного мира.
С позиций трансцендентного насилия речь уже не идёт о возвращении артефактов в природную имманентность, изъятое из мира природы отныне постулируется утраченным навсегда. И если в жертвоприношениях все его участники становятся причастными к континуальности, то псевдожертвоприношения только увеличивают дискретность. Во-первых, остаются пробелы от невозвратно изъятого из природной континуальности. Во-вторых, техногенный мир лишается некоторой своей части. И, в-третьих, появляется всё больше новых точек роста мусорной дискретности, которые не обнулить ни рециклингом, ни даже преданием огню, поскольку и то и другое – энерго- и ресурсоёмкий процесс. Возникает неосмысленный пока феномен мусорных полигонов как современных псевдожертвенников техногенной цивилизации, свидетельствующих о тотальном наделении всего свойством «вещности».
Мир вещей невозможно разрушить, поскольку мы не способны снова войти в мир имманентности без посредничества артефактов. Мир вещей необходимо разрушить, поскольку техногенный мир достиг такого уровня развития, что никто не знает, как распорядиться произведённым и что человеку делать с самим собой. Возможно, стоит вести речь о разрушении «вещности» прежде всего на уровне сознания или о смещении фокуса с чистой утилитарности на удовлетворение прежде всего эстетических и эмоциональных потребностей. Есть слабая надежда, что объективация именно в таких наиболее интимных и наименее утилитарных сферах позволит в перспективе прийти к положительным изменениям.
Список литературы Овеществление человека техногенного мира в контексте трансцендентного насилия
- Аль-Ани, Н.М. Философия техники: очерки истории и теории. СПб, 2004. 184 с.
- Зыгмонт А.И. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. 2015. № 3 (59). С. 23-38. DOI: 10.15382/sturI201559.23-38
- Зыгмонт А.И., Дюков Д.Д. Философия насилия и сакрального Жоржа Батая и Рене Жирара в сравнительной перспективе // Религиоведческие исследования. 2017. № 1 (15). С. 29-72.
- Кудрин, Б.И. Технетика: новая парадигма философии техники (третья научная картина мира). Томск, 1998. 40 с.
- Попкова, Н.В. Формирование глобальной техносферы: этапы и перспективы // Век глобализации. 2019. № 2 (30). С. 61-73.
- Розин, В.М. Понятие и современные концепции техники. М., 2006. 255 с.
- Abbagnano N. Filosofia, religione, scienza. Torino, 1967.
- Direk, Z. Bataille on Immanent and Transcendent Violence // Bulletin de la Societe de Philosophie de Langue Frangais. 2004. Vol. 14. № 2. P. 29-49. DOI: 10.5195/jffp.2004.459