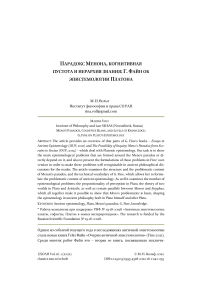Парадокс Менона, когнитивная пустота и иерархия знания: Г. Файн об эпистемологии Платона
Автор: Вольф Марина Николаевна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.16, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается обзор разделов книг Г. Файн Essays in Ancient Epistemology (OUP, 2021) and The Possibility of Inquiry: Meno's Paradox from Socrates to Sextus (OUP, 2014), которые касаются платоновской эпистемологии. В нашу задачу входит обозначить главные эпистемологические проблемы, которые оформляются вокруг парадокса Менона или прямо от него зависят, а также представить формулировки этих проблем у Файн с тем, чтобы сделать для читателя данные проблемы хорошо узнаваемыми в античных философских дискуссиях. Излагается структура и проблемное содержание парадокса Менона, рассматриваются технический вокабуляр Файн, позволяющий ей сформулировать проблемное содержание античной эпистемологии. Рассматриваются проблемы пропозициональности восприятия у Платона, теории двух миров у Платона и Аристотеля, а также определенные параллели между диалогами Менон и Сизиф, которые все вместе дают возможность показать, что проблематика Менона является базовой, оформляющей античную эпистемологию античной философии как у самого Платона, так и после Платона.
Античная эпистемология, Платон, парадокс Менона, Г. Файн, знание
Короткий адрес: https://sciup.org/147237632
IDR: 147237632 | DOI: 10.25205/1995-4328-2022-16-1-249-253
Текст научной статьи Парадокс Менона, когнитивная пустота и иерархия знания: Г. Файн об эпистемологии Платона
* Работа выполнена при поддержке РНФ № 19-18-00128 «Античная эпистемология: элеаты, софисты, Платон в новых интерпретациях». The research is funded by the Russian Scientific Foundation № 19-18-00128.
Одним из событий текущего года в исследованиях античной эпистемологии стала новая книга Гейл Файн «Очерки античной эпистемологии» (Fine 2021). Среди многих работ Файн это - вторая ее книга, посвященная исключи-
ZXOAHVol. 16.1(2022)
тельно вопросам эпистемологии. Первая книга «Возможность поиска: парадокс Менона от Сократа до Секста» (Fine 2014) касалась вопроса о возможности поиска знания, и ее содержание выстраивалось вокруг парадокса Менона. Во второй книге речь идет непосредственно об определении понятия знания и его содержании. Книги имеют примерно сходную организацию и структуру. Обе книги представляют собой сборники статей, ранее уже опубликованных в разных периодических изданиях (или ожидающих публикации на момент выхода тома), с минимальными исправлениями и дополнениями. Обе в хронологическом порядке рассматривают преимущественно взгляды Сократа, Платона, Аристотеля, а также скептиков, причем в первой книге - в их сопоставлении с другими эллинистическими теориями, в частности с эпикурейцами, а во второй - с позиций соотнесения скептицизма картезианского толка и античного в версии Секста Эмпирика. Обе книги хорошо рассматривать как взаимодополняющие. Несмотря на то, что многие статьи обоих томов публиковались ранее, собранные под одной обложкой, они предлагают читателю более системную и целостную картину античных представлений о знании, начиная с Платона, нежели они читались бы разрозненно в разных изданиях, и они последовательно демонстрируют логику развития мысли и аргументации автора.
Для книг Файн характерно то, что она не пытается писать античную историю эпистемологии. Для работ Файн в целом характерно использование современного философского инструментария применительно к вопросам античной эпистемологии. Именно в силу этого работы Файн можно отнести к аналитической истории античной философии. При этом ей хорошо удается соотносить классический подход к античным текстам с философской или более узко - эпистемологической проблематикой, не перегружая текст формальными подходами или специальной терминологией. Сам дискурс остается вполне классическим, но приобретает актуальное современное звучание. Очевидно, что подход Файн позволяет уйти от сугубо антиквариа-ристкого интереса к текстам античных философов и в целом выводит все рассуждение на достойный и современный уровень эпистемологический дискуссии. Вероятно, по этой же причине или для того, чтобы сделать книгу более удобной для широкого круга читателей-философов, в книге используется латинская транслитерация греческих терминов, за исключением некоторых расширенных отрывков греческих текстов там, где важен исходный контекст.
Ниже мы подробнее рассмотрим те разделы обозначенных книг Г. Файн, которые касаются платоновской эпистемологии. В нашу задачу входит обозначить главные эпистемологические проблемы, которые оформляются вокруг парадокса Менона или прямо от него зависят, а также представить формулировки этих проблем у Файн с тем, чтобы сделать для читателя данные проблемы хорошо узнаваемыми в античных философских дискуссиях. Мы не будем касаться подробного обсуждения решений данных проблем, предлагаемых Файн, в некоторых случаях будем обозначать их в самых общих чертах. Читатель сам сможет ознакомиться с ними, тем более, что изощренная аргументация Файн вряд ли позволит изложить ход ее мыслей кратко. Подчеркнем, что мы выстроили наше обсуждение подходов и решений к проблемам античной эпистемологии у Файн таким образом, чтобы продемонстрировать значимость парадокса Менона и его центрирующее положение для проблем познания в античности.1
Парадокс Менона, или парадокс знания обычно рассматривается как негативная позиция в дискуссии о возможности поиска знания. Сам про-блематизирующий пассаж представлен в Мепо у1а-81а. Можно обсуждать данный парадокс в контексте проблемы причастности, как поиск знания по частям или по целому.2 Файн предпочитает рассматривать парадокс безотносительно какой-либо иной проблематики, кроме поиска знания как такового. В ее формулировке структура парадокса состоит из:
-
1) трех тезисов Менона, сформулированных как вопросы:
-
(М1) Но каким же образом, Сократ, ты будешь искать вещь, не зная даже, что она такое?
-
(М2) Какую из неизвестных тебе вещей изберешь ты предметом исследования?
-
(М3) Или если ты в лучшем случае даже натолкнешься на нее, откуда ты узнаешь, что она именно то, чего ты не знал? (8065-8) (пер. С.А. Ошерова),
-
2) их переформулировки Сократом в четырехчастную дилемму:
«Я понимаю, что ты хочешь сказать, Менон. Видишь, какой довод ты приводишь - под стать самым завзятым спорщикам!3 (S4) Значит, человек, знает он или не знает, все равно не может искать. (S3) Ни тот, кто знает, не станет искать: ведь он уже знает, и ему нет нужды в поисках; (S3) ни тот, кто не знает: ведь он не знает, что именно надо искать» (8ое1-з) (пер. С.А. Ошерова).
Или в более формальном виде:
-
S1. Для любого х , либо известно, либо неизвестно, что есть х .
-
S2. Если кто-либо знает х , он не сможет искать х .
-
S3. Если кто-либо не знает х , он не сможет искать х .
-
S4. Следовательно, для любого х , кто-либо не сможет искать х (Fine 2011, 8-9).
Кроме того Файн тщательно рассматривает разные способы понимая логической структуры парадокса, варианты понимания предпосылок, зависящих от самих понятий «знание» и «незнание», а также анализирует условия истинности и ложности самих шагов сократовской дилеммы.
Для наилучшего понимания парадокса Файн вводит несколько технических терминов. Во-первых, она различает термины, важные для понимания контекста парадокса: приоритетность знания что (the priority of knowledge what, PKW)4, допущение единственности F (the oneness assumption)5, диалектическое требование (Dialectical Requirement); все они касаются предварительной вводной части, где обсуждалась добродетель, которая предшествовала формулировке парадокса.
Во-вторых, Файн вводит термины, важные для развертывания самой структуры парадокса, как для Меноновой позиции, так и для Сократовой дилеммы, которые используются для демонстрации принципиальных различий в понимании силы парадокса Меноном и Сократом. Перечислим их ниже.
Принцип предзнания (Foreknowledge Principle) позволяет обсудить вопрос о том, придерживаются ли Сократ и Менон какой-либо версии предзнания. Как известно, проблематичное решение парадокса Аристотелем6
исходит из признания предзнания,7 и в целом, как пишет Файн (Fine 2011, 31), если считать, что и Платон, и Аристотель, и эпикурейцы со стоиками согласны с тем, что принцип предзнания позволяет решить парадокс, то можно ожидать, что и в отношении знания они должны занять сходные позиции, но это не так. Даже если, они согласны, что предзнание необходимо для всякого поиска, то знание, тем не менее, все они понимают по-разному, «их кажущееся согласие относительно предзнания на самом деле маскирует важные различия» (Ibid).
П-знание (P-knowledge) - исходное базовое понятие знания, которое позволяет задать разные оценки и определения знания античными философами. Оно представляет собой формулировку знания (episteme) в Meno 98а «как истинного убеждения, связанного с рассуждениями об объяснении: человек знает, что р , тогда и только тогда, когда он верит, что р , р истинно, и может объяснить, почему р истинно» (Fine 2011, 16-17). Иногда, отмечает Файн, принцип предзнания в тех трактовках, которые согласны признать этот принцип у Платона, смешивается с предварительным знанием и собственно П-знанием, но сам Платон (по крайней мере в Меноне ) считает сформулированное таким образом знание эпистемой.
Наконец, в связи с установлением ложности или истинности шагов S1-4 дилеммы и различия точек зрения Менона и Сократа на пониманию парадокса важны два меноновых возражения: «возражение к цели поиска» (“Targeting Objection”) и «возражение к распознаванию» (“Recognition Objection”). Первое подразумевает, что если нет возможности поставить цель поиска («прицелиться» в конкретный объект), то невозможно и приступить к такому поиску; второе подразумевает, что если объект поиска неизвестен, то и распознать при встрече с ним, что это тот самый искомый нами объект, мы не сможем. Оба возражения непосредственно связаны с понятием когнитивной пустоты (cognitive blank), связанной с допущением истинности S3. Иначе говоря, можно признать шаг дилеммы S3 ложным, т.к. он опирается на ошибочную модель знания «все или ничего» (Fine 2011,1112), поскольку данные варианты не являются исчерпывающими для знания (аналогично решение парадокса Аристотелем в An. Post. 71b 5-10: некоторым образом можно знать изучаемое, а некоторым нет). Решение парадокса в таком случае заключается в том, чтобы указать на наличие некоторых промежуточных состояний знания, таких как частичное знание или незнание, истинная вера, обоснованная вера и пр., которые позволяют продвигаться в исследовании, в отличии от состояния когнитивной пустоты, которая и описывается парадоксом. Иначе говоря, Менон видит парадокс как описывающий ситуацию когнитивной пустоты, Сократ не признает когнитивную пустоту, что демонстрирует формулировка П-знания. Мы можем придавать разный познавательный статус различным когнитивным состояниям, например, не признавая мнение в качестве знания, однако и неверно утверждать, что человек, имеющий мнение, находится в состоянии когнитивной пустоты; это лишь состояние некоторой (большей или меньшей) нехватки знания. Проблема Менона заключается в том, что он не допускает различий между когнитивными состояниями, превышающими уровень пребывания в когнитивной пустоте. Кроме того, вопрос о когнитивной пустоте тесно связан с вопросами о врожденном знании и припоминании (отвечал ли мальчик-раб на вопросы Сократа из позиции когнитивной пустоты или опирался на некоторые «врожденные» элементы знания), концепции tabula rasa и пр.
В последующих главах (существенно меньших по объему, нежели части, посвященные структуре и анализу самого парадокса), Файн рассматривает иные, нежели episteme Платона, формы знания: gnosis во Второй Аналитике Аристотеля , prolepseis в контексте дискуссии стоиков и эпикурейцев в отношении того, насколько они расходятся с П-знанием. Кроме того, задача Файн заключается в том, чтобы показать, что даже в тех случаях, когда эпи-стемические дискуссии в последующей философии не имеют прямых ссылок на Менон , тем не менее, они являются прямым продолжением дилеммы, поставленной в парадоксе и их следует (полезно) рассматривать именно в этом контексте.
Указанные положения важны для понимания содержания второй книги (Fine 2021), которая содержит две организующих ее важные предпосылки или установки, общие для всего дальнейшего рассуждения.
Во-первых, вопрос о том, насколько соотносимы наше современное понимание и определение знания с античным. Мы видели, что в первой книге Файн уже задавалась вопросом о различии в понимании знания в антично- сти, подчеркивая особенности понимания у Платона, Аристотеля, Секста и т. д., и даже внутри самого рассуждения Платона в Меноне, где разница позиций Сократа и Менона вполне может отражать представление о знании у Платона и, допустимо предположить, у софистов, если вспомнить, что Менон высказывается от лица Горгия как его ученик. В том, что касается современного понимания, Файн убеждена, что здесь имеются существенные расхождения, и что крайне богатый когнитивный вокабуляр греческого языка нередко передается в современной литературе и переводах всего лишь одним термином «знание», что не только ведет к утрате смысловых оттенков разных понятий, но и в принципе влечет проблему несоизмеримости современного и античного когнитивных языков. Однако Файн, как кажется, полагает, что эта проблема может быть нивелирована через тщательное, аккуратное установление точных смыслов каждого понятия в эпи-стемическом вокабуляре и аккуратном сопоставлении их со смыслами нашего современного языка, и она последовательно придерживается этой установки в каждом разделе своей книги.
Во-вторых, отказ от признания когнитивной пустоты в первой книге ведет Файн к признанию многоуровневости и иерархической выстроенности видов знания по отношению к истине. Иначе говоря, ее занимает вопрос о когнитивном превосходстве одного вида знания относительно другого. Речь идет не только о ценностной нагруженности рационального или чувственного знания, но также о статусе веры, корректной веры, обоснованной веры, эпистемы, осведомленности и пр. относительно их близости к истине.
В качестве исходного методологического принципа Файн можно отметить ее требование, что для корректного и лучшего понимания многих когнитивных терминов в греческом в данном контексте полезно «различать концепт (понятие) знания от его частных концепций. Сам концепт знания обеспечивает абстрактное представление (account) того, что есть знание; частные концепции наполняют это представление более определенными (determinate) способами. Два человека могут соглашаться относительно концепта чего-то, и при этом расходиться в отношении правильной, или наилучшей, концепции этого» (Fine 2021, 3).
Во втором томе Файн дает формулировку знания, которую можно считать уточненной формулировкой П-знания, которую она обсуждает практически в каждой главе: как когнитивного условия, влекущего истину, которое когнитивно превосходит простое истинное мнение (Fine 2021, 4, 36,112 etc.), и повсюду более или менее придерживается этой формулировки, используя ее в том же качестве, как и в первом томе - как критериального условия для понимания знания, как оно было сформулировано Платоном, равно как и для раскрытия содержания понятий знания и его трансформаций у Аристотеля и скептиков.
Ниже мы приведем выборку тех проблем из числа сформулированных Файн во втором томе, которые представляются нам актуальными как для эпистемологии Платона, равно и для всей античной философии. Для отечественного читателя они представляют особенный интерес, поскольку не часто оказываются в фокусе интересов отечественных авторов.
Прежде всего рассмотрим проблему пропозициональности восприятия у Платона.8 Данная проблема конструируется Файн, с одной стороны, на основании пассажа из «Размышления» Декарта (CSM II 294-5 / AT VII 436-8), где различаются три уровня восприятия - непосредственная стимуляция органов чувств внешними вещами, затем, эффект, который производится взаимодействием души (сознания) и тела, и наконец, суждения о состоянии внешних объектов на основании данных органов чувств (Fine 2021,155-157), с другой стороны, на основании пяти тезисов пассажа Tht . 186 67-12 (с учетом предшествующего рассуждения в Tht . 184-186), в которых обсуждается вопрос, является ли восприятие знанием. Файн задается вопросом о том, как именно понимает восприятие Платон в Теэтете и Федоне - как уровень 2 или уровень з по декартовскому делению (первый вариант почти никто не принимает). Файн рассуждает в рамках позиции, что восприятие не является знанием, поскольку не пропозиционально и не концептуально. Концептуальный и пропозициональный уровни связаны, и оба они не имеют отношения к восприятию. На основании платоновского тезиса Т3 в Tht . 186 67-12 «Восприятие не может схватывать сущность», мы можем воспринимать красноту, но не можем воспринимать «существующее красным», поскольку красное идентифицируется, только если есть понятие (концепция) красноты и оно сформулировано как пропозиция («краснота есть такое-то и такое-то»). Если допустить обратное, придется признать, что восприятие исходит из концепций и сформулировано как предложение (некоторое высказывание), а это неверно. У этого положения есть и обратная сторона: восприятие невозможно без концептуального уровня, воспринимать до или помимо концептов невозможно, поскольку невозможно утверждать, что «я вижу красноту» или «яблоко красное», не имея понятия красноты. Такого рода высказывания, согласно Tht . 184-186 могут принадлежать самой душе, но не могут выражать то, что схватывается восприятием. Сопоставляя Те-этет и Федон , Файн показывает, что они содержат конкурирующие представления о восприятии, но содержит ли один критику другого - этот во
—
-
8 Проблема обсуждается в Главе 7 («Plato on the Grades of Perception: Theaetetus 184-186 and the Phaedo ») (Fine 2021,155-188).
прос остается открытым. Проблемы этих диалогов лежат в разных областях: «Задача в Tht . 184-6 заключается в том, чтобы дать точное описание природы восприятия и того, чего оно может достичь. Основная задача Федона (в том, что касается отрывков, обсуждающих восприятие), состоит в том, чтобы отстоять точку зрения, согласно которой мы не можем получить знания об идеях, если мы полагаемся на восприятие или на поиск, управляемый восприятием; скорее, нам нужно рассуждать способом, который ... независим от них обоих» (Fine 2021,187-188).
С этой первой проблемой связана проблема так называемой теории двух миров (Two Worlds Theory (TW)), приверженцем которой часто считают Платона.9 Согласно этой теории идеи и физические объекты существуют в разных мирах, и знание возможно только об идеях, тогда как о чувственно воспринимаемом может быть только вера. В зависимости от того или иного диалога Платона двухмировая теория исследователями или принимается, или отвергается. Например, она отвергается в Меноне , поскольку этот диалог допускает знание о воспринимаемом (ср. рассуждение о «дороге в Ларису»). Однако более проблематичными в этом отношении представляются Федон и Государство , и одна из задач Файн заключается в том, чтобы на основании того, что понимается под эпистемой в Федоне , ответить на вопрос о двухмировой теории. Файн уточняет понятие эпистемы как она понимается в Меноне и Федоне и задается вопросом, любая ли эпистема требует объяснения. В Меноне видно, что существуют различные уровни объяснения (как и уровни знания), и что не всякое объяснение нуждается в схватывании идей, а значит и не всякая эпистема возможна только об умопостигаемом. В Федоне видно, что можно иметь эпистему о том, что нечто существует таким-то образом, но при этом отсутствует объяснение, почему это так.
Такова же логика рассмотрения ею эпистемы во Второй Аналитике Аристотеля. Файн отталкивается от вопроса, является ли эпистема знанием, и если является, то знанием какого уровня (знание как таковое или какой-то вид знания). Еще раз в связи с Аристотелем Файн возвращается к обсуждению двухмировой теории Платона, но при этом спрашивает себя, является ли Аристотель приверженцем этой теории, и проблематизирует ее содержание, обсуждая разные версии TW. Решение этой проблемы в такой форме скорее имеет отношение к прояснению понятия знания у Аристотеля, нежели у Платона, и снова предваряется рассуждением о том, насколько различны их представления об эпистеме , и в какой мере ими противопо-—
-
9 Проблема обсуждается в Главе 4 («The ‘Two Worlds’ Theory in the Phaedo ») и Главе io («Aristotle’s Two Worlds: Knowledge and Belief in Posterior Analytics 1.33» (Fine 2021, 94-108,243-264).
ставлены знание и вера ( эпистема и докса ). Вопрос о двухмировой теории сводится к тому, можно ли приписать Платону эту теорию, и соответственно, можно ли приписать ее Аристотелю, и если можно, то какую из версий, т. к. следует различать двухмировую теорию (TW) о пропозициях (Propositions) и двухмировую теорию (TW) об объектах (Objects), а также их сильную (Strong) и слабую (Weak) версии (соответственно, получаем четыре возможных интерпретации: STWP, STWO, WTWP, WTWO).
STWP (сильная двухмировая теория о пропозициях) утверждает, что не существует пропозиций, которые могут одновременно выражать и знание и веру; согласно WTWP (слабая двухмировая теория о пропозициях), не каждому утверждению, для которого существует знание, может соответствовать вера (т. к. существуют ложные веры). STWO признает, что не существует таких объектов, для которых одновременно возможны и знание, и вера. WTWO признает, что набор объектов, о которых можно иметь веру или знание, различен, хотя и в какой-то мере пересекается.
Соответственно, аргументы, которые будут даны в пользу той или иной позиции, существенно зависят от того, будем мы признавать знание разновидностью веры или нет, принимаем мы релятивистскую установку зависимости статусов знания и веры от временной шкалы (сначала верить в точке t1, а получив обоснование в точке t2 , о том же самом иметь уже знание), может ли быть эпистема только об идеях или вообще обо всем, и т.д. Соответственно, важную роль будут играть нюансы и оттенки в понимании знания у Платона и Аристотеля, и способа перехода к нему от веры.
По мнению Файн, в Меноне, Федоне и Государстве Платон отрицает все четыре возможных версии TW, поскольку в этих диалогах допускает и знание и веру в равной мере и о восприятии и об идеях, а также, что для любой пропозиции, для которой может иметься знание, может иметься и вера (Fine 2021, 19). В свою очередь Аристотель, по мнению Файн, придерживается WTWP, поскольку рассуждая о пропозициональном содержании, ограничивает эпистему необходимыми истинами, и есть несколько истинных суждений, о которых возможна докса, но не эпистема. Но поскольку все-таки остается возможность, что для необходимых истин может быть не только эпистема, но и докса, то возможно, он отклоняет STWP, однако, как показывает Файн, в АР 1.33 он придерживается скорее этой версии. Далее, Аристотель отвергает STWO, но придерживается WTWO. Он ограничивает объекты, для которых возможна эпистема необходимыми, однако допускает, что о таких объектах возможна и вера. Кроме того, Аристотель ставит вопрос о низкоуровневых типах знания, которые появляются в результате схватывания в условиях когда нет эпистемы о познаваемых объектах, например, та- ких, о которых вообще не может быть эпистемы или контингентных, которые в целом обозначаются через доксу.
Как заключает Файн, TW обычно приписывают Платону, однако ее анализ показывает, что Платон отвергает все четыре возможных версии TW, тогда как Аристотель придерживается двух из четырех версий - STWP и WTWO. Однако некоторые отдельные пассажи выбиваются из общей картины и представленные в них рассуждения дают совершенно отличные варианты решения вопроса (например, Rep . V или АР 1.33).
Все перечисленные проблемы являются дискуссионными в современных работах по античной эпистемологии и не имеют устоявшегося консенсуса относительно их решения. Для многих из них Файн предлагает свой вариант решения, а если не имеет такового, то по крайней мере заостряет саму проблему.
Среди более или менее привычного ряда текстов, обсуждаемых в рамках античной эпистемологии как то: Апология , Менон , Федон , Теэтет Платона, Вторая Аналитика Аристотеля, а также Против ученых и Три книги Пирроновых положений Секста Эмпирика, Файн посвящает отдельный и значительный по объему раздел тексту, который с одной стороны считается среди текстов Corpus Platonicum подложным, а с другой стороны не получал достаточного внимания в современных эпистемологических дискуссиях, вероятно, в силу того, что он, согласно оценке У. Гатри (Fine 2021, 190) «является незначительным софистическим упражнением». Речь идет о диалоге Сизиф , искомым понятием которого является обсуждение или совет , а контекстом всего рассуждения - является ли обсуждение знанием.
Между Сизифом и Меноном имеется значительное число пересечений, начиная с того, что оба главных героя диалогов, именами которых они названы, родом из Фессалии, в обоих диалогах рассуждения собеседника Сократа приравниваются к эристическому аргументу, развернуто представлены геометрические пассажи, используются те же технические приемы (например, «возражение к цели поиска») и базовые понятия (П-знание), формулируются парадоксы. В частности парадокс Сизифа построен по тому же принципу, что и парадокс Менона, только речь идет не о возможности знания, а возможности обсуждения (совета).10 Сизиф утверждает, что совет -это некоторый тип поиска знания, и тогда на эту точку зрения распространяются все затруднения, справедливые для поиска знания вообще, которые обсуждались в Меноне. Это видно по структуре парадокса, параллельной четырехчастной дилемме Сократа:
-
1. Обсуждение требует или не требует знания.
-
2. Если обсуждение требует знания, то оно невозможно.
-
3. Если для обсуждения не нужны знания, то оно невозможно.
-
4. Следовательно, обсуждение невозможно.
Если для обсуждения требуется знание, то под вопросом само существование такой вещи как обсуждение (в отсутствие знания обсуждать будет нечего, поскольку требуемые для этого знания недостижимы); если же знания не требуются, то тогда обсуждение является просто некоторой догадкой. Однако совет - это не просто догадка. Получается, что обсуждение невозможно вне зависимости от того, требуется для него знание или нет. Таким образом, парадокс строится на двух тезисах: совет либо предполагает знание либо является простой догадкой. Мы снова наблюдаем модель построения парадокса по принципу «все или ничего», уже виденную нами в Меноне , но как и в базовом случае, эта модель не является исчерпывающей и для обсуждения тоже. В частности, истинные веры не являются ни догадками, ни знанием, но могут быть учтены при ответе на вопрос, что же такое обсуждение.
По словам Файн, данный диалог - это «увлекательная попытка применить парадокс Менона к природе обсуждения» (Fine, 2021, 217). По ее мнению, диалог крайне запутан и приемлемого решения не дает, однако схемы возможного ответа на оба парадокса могут быть идентичными: «Но точно так же, как мы можем разрешить парадокс Менона, только тщательно подумав о природе знания и исследования, мы можем разрешить и парадокс Сизифа об обсуждении только в том случае, если мы серьезно задумаемся о природе знания, поиска и обсуждения» (Fine 2021, 217).
Аристотель, как и в случае с парадоксом Менона, который с точки зрения Стагирита разрешим, считает, что «Парадокс принятия решения» разрешим и считает обсуждение поиском.11 По мнению Файн (Fine 2021,14,192), Сизиф мог быть написан до Никомаховой этики , в которой, как известно, понятию то PouXsueaSat отводится значимое место. В таком случае этот диалог оказывается полезен для понимания того, как именно могли существовать дискуссии, инициированные парадоксом Менона, между Платоном, который был убежден в том, что нет простых и очевидных способов решить этот па-
252 Парадокс Менона, когнитивная пустота и иерархия знания радокс,12 и Аристотелем, который был уверен, что предлагает оптимальное решение парадокса.
Таким образом, благодаря анализу и доводам Файн, видно, что парадокс Менона и в целом проблематика поставленная в Меноне , оказываются базовыми пунктами, вокруг которых формируется эпистемологическая проблематика античной философии как у самого Платона, так и после Платона.
Однако стоит отметить, что ряд проблем, обсуждаемых в связи с Меноном , а также повторенных отчасти в Федоне и Теэтете , уже вполне явно прочитываются у Горгия13: это прежде всего категориальный аргумент, направленный на прояснение восприятия, автономность отдельных чувств и связанных с ними ментальных состояний,14 а также проблема значения как референции, вопросы субъективности и интерсубъективности в познании. Категориальный аргумент напрямую связан с функцией языка (речи): Платон распространяет парадокс Менона на любое знание, Горгий ставит вопрос к постижению посредством языка, формулируя по сути дилемму, сходную с сократовской, «парадокс языка», - слова излишни, если ментальное постижение вещи уже произошло, и слова совершенно неэффективны, если такого схватывания нет. Иначе говоря, если признать, что критерием истинности выступают феномены, впечатления, тогда речь избыточна с точки зрения объяснения вещей, поскольку имеется чувственное постижение или ментальное схватывание вещей, и речь бессильна объяснить вещи в том случае, если чувственное постижение или ментальное схватывание вещей отсутствует. Это вопрос уже не столько об истинности или ложности высказываний, а в принципе, о функции и необходимости речи.
Тем самым, можно назвать, пожалуй, единственный дезориентирующий момент в работе Файн (2021), и он касается названия книги. Название претендует на создание определенной картины эпистемологии в античности в целом, но стартует с Сократа, с разбора его знаменитого утверждения «я знаю, что ничего не знаю». Тем самым из античных эпистемологических дискуссий исключаются вся доплатоновская проблематика, а именно: проблема сенсуализма или релятивизма у софистов, античная теория восприятия, которая восходит к Эмпедоклу и отчасти реализуется у тех же софистов как категориальный аргумент и парадокс языка, и она же отчасти является проблемной областью для самого Платона. Очевидно, что эти вопросы вы- ходят за рамки научных интересов Файн и не обсуждается в данной книге, но неискушенный читатель может сделать неверные выводы о стартовой точке античных эпистемологических дискуссий.
В целом книга дает прекрасную возможность погрузиться в дискуссии об античной эпистемологической проблематике, которые ведутся на крайне обстоятельном и продуктивном уровне, с обсуждением не только собственных, авторских решений, но и с обстоятельным изложением иных точек зрения, что позволяет читателю органично вовлекаться в эти дискуссии.
Список литературы Парадокс Менона, когнитивная пустота и иерархия знания: Г. Файн об эпистемологии Платона
- Вольф, М.Н. (2013) «Менон и парадокс поиска: интерпретации метода познания», Вестник Русской христианской гуманитарной академии 14(3), 53–60.
- Вольф, М.Н. (2011) «Эпистемический поиск в диалоге Платона Менон», Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология 4(16), 146–159.
- Вольф, М.Н. (2019) «Порядок аргументов и их философское содержание в эпистемических разделах речи Горгия «О не-сущем» по двум версиям ее пересказа», Философский журнал 12.4, 112‒127.
- Mourelatos, A. P. D. (1987) “Gorgias on the Function of Language,” Philosophical Topics 15.2, 135–170.
- Fine, G. (2021) Essays in Ancient Epistemology. Oxford.
- Fine, G. (2014) The Possibility of Inquiry: Meno's Paradox from Socrates to Sextus. Oxford.