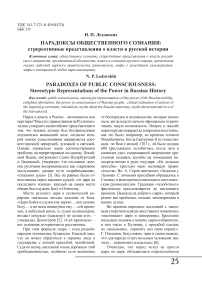Парадоксы общественного сознания: стереотипные представления о власти в русской истории
Автор: Ледовских Наталья Петровна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
Миф о господстве монархически предпочтений в менталитете россиян чрезвычайно удобен для объяснения неудач в процессе формирования демократического общества. При этом постоянно ссылаются на отечественную историю, что совершенно не соответствует действительности. Очевидно, что в массовом сознании слились воедино как религиозно-мистические, так и рационалистические представления о предназначении первого лица государства, и последние в большей степени определяли поведение масс.
Общественное сознание, стереотипные представления о власти российского дворянства, просвещенный абсолютизм, власть в сознании русского народа, критическая оценка действий царского правительства, рационализм, мифы о российском самодержавии, мифы о всенародной любви царя-самодержца
Короткий адрес: https://sciup.org/14720664
IDR: 14720664 | УДК: 141.7:321.6/.8:94(470)
Текст научной статьи Парадоксы общественного сознания: стереотипные представления о власти в русской истории
Народ и власть в России – антагонисты или партнеры? Вместе с православием на Руси попытались утвердить византийское представление о том, что человек должен был беспрекословно подчиняться всевышней воле, согласно которой земное существование направляется соответствующей иерархией, духовной и светской. Однако изначально наши соотечественники проблему интерпретировали по-своему. Покойный Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, утверждал, что сословное деление русичами воспринималось как «церковное послушание», разные пути «израбатывания», «спасения души» [3]. Все на равных были ответственны перед высшим судьей, «от царя до последнего холопа», каждый на своем месте обязан был служить Богу и Отечеству.
Место русского царя в космической иерархии оказалось весьма далеким от Бога. «Царя бойся и служи ему верою… яко самому Богу… и во всем повинуйся ему… сей временен, а небесный вечен, и, судия нелицемерен, воздаст комуждо (каждому) по делам его», – утверждал Домострой [2]. «Сей временен» – вот основная детерминанта россиянина.
При этом формула «царь = отец родной» народом понималась буквально. Каждый знал, что он может обратиться к первому лицу в государстве с личной просьбой, челобитной. Судя по всему, население очень дорожило этой приближенностью, особенно если вспомнить те беспорядки и недовольство, которые возникали, когда власти начали официально ограничивать такую возможность. Вопрос о жалобе царю нередко перерастал в народное восстание, как это было, например, во времена Алексея Михайловича. Когда Екатерина II путешествовала по Волге весной 1767 г., ей было подано 600 крестьянских челобитных, после чего и появился указ, содержавший запрещение крестьянам подавать жалобы на помещиков непосредственно в руки государя. «Не дельные просьбы» крестьян мало волновали правительство. Вл. А. Серов запечатлел «Ходоков у Ленина». С личными просьбами обращались к Сталину и всем прочим советским и постсоветским руководителям. Традиция «челобитных» фактически прослеживается до настоящего времени. Надежда на доброго «царя», который решит все проблемы, похоже, неискоренима в наших душах.
Во времена народных восстаний с завидным упорством в рядах восставших появлялись «настоящие» цари и императоры. Крестьяне посылали ходоков к новому царю-избавителю, в том числе к Пугачеву, с просьбой сделать их «вольными», «принять под свою корону». Г. Плеханов, безусловно, прав в своем выводе, что для народа «стать вольным человеком значило… переменить владельца» [6].
Очевидно, что народ хотел не просто царя, но царя, обладающего определенными качествами. В глазах народа двое первых Романовых в точности соответствовали идеалу царской власти: строг, но справедлив, сохраняет верность православным традициям и заветам, защищает подданных от всякой «неправды», милостиво относится к простым людям. Собственно, это и были главные задачи власти в понимании населения: хранить и оберегать веру, обеспечивать спокойствие и гармонию отношений в стране, охранять от внешних врагов.
Жестокость действий правительства мало смущала народ. Наказание за проступок от царя-батюшки – норма, но царь, забывший о своем народе, – аномалия. Неудивительно, что оценка власти народом никогда не совпадала с оценкой, данной историками, поскольку реформы всегда сопровождаются определенными потерями, особенно в нашей стране, где «испокон веку» их тяжесть ложилась на народные плечи.
Уже в XVII, а особенно в XVIII в. для населения стало очевидным, что правительство посягает на самое «святое», а именно не улучшает, а разрушает гармонию отношений. Точкой отсчета социально-религиозных перемен стали реформы честолюбивого Никона. Введение «новин» население использовало для открытого протеста против властей, обусловленного эсхатологической идеей «второго пришествия», верой в возможность воцарения Антихриста и временного господства темных сил. Очень скоро распределились и роли: Антихрист являлся «нечистой троицей, состоящей из змия, зверя и лживого пророка: змий – дьявол, зверь – царь, лживый пророк – патриарх» [7].
Если в XVII в. по всей Руси пылали «гари», то конец XVII – первая половина XVIII в. ознаменовались массовым бегством крестьян в Сибирь. В ожидании прихода Антихриста переставали пахать и сеять, уходили в леса, делали гробы и «за-пощевались», т. е. умирали голодной смертью. Ситуация настолько обострилась, что возникла угроза разорения помещиков и государственной казны. Население не ограничилось пассивными формами сопротивления. Крестьянство вступило с правительством в «вооруженный бой», который после Соловецкого бунта принял характер затяжного кризиса.
Идея «царя-Антихриста», которому не только можно, но и должно «противиться», пустила в народном сознании глубокие корни. Сначала Антихристом окрестили Алексея Михайловича, первым посягнувшего на традиции. Больше всего на эту роль подходил Петр I, демонстративно не поклонявшийся святыням, собственноручно бривший бороды и казнивший восставших стрельцов. Миф о «подменном государе» решил судьбу Петра III, когда сторонники переворота специально распускали слухи о намерении императора уехать к Фридриху. Как только после освобождения у крестьян в результате межевания отрезали землю, в «Антихристы» попал и Александр II, и из многих мест необъятной России шли лаконичные отчеты: «Правительства не признают».
В обыденном сознании слились воедино как религиозно-мистические, так и рационалистические представления о предназначении первого лица государства, и последние в большей степени определяли поведение масс. Во всяком случае, поставившему цель легко можно было поднять население на бунт, и это хорошо усвоили социал-демократы всех мастей конца ХIХ – начала ХХ в.
«Благородному» сословию, конечно же, были чужды мысли «о ненастоящем царе». Как и народные массы, имеющийся в стране порядок они считали вполне разумным. П. Н. Милюков в своих «Очерках» приводит диалог между поляками и русскими (время правления В. Шуйского): «“Соединитесь с нами, – говорили поляки, – и у вас тоже будет свобода“. “Вам дорога наша свобода, – отвечали им на это русские, – а нам наша неволя. У вас не вольность, а своеволие: сильный грабит слабого, может у него отнять имение и самую жизнь, а найти на него суд, по вашим законам, трудно: дело может затянуться на целые годы. С иного и ничего не возьмешь. У нас, напротив, самый знатный боярин не властен обидеть последнего простолюдина; по первой жалобе царь творит суд и расправу. А если сам царь поступит неправосудно – его воля: от царя легче снести обиду, чем от своего брата; на то он наш общий владыка”» [Цит. по: 5].
Именно дворяне больше всех зависели и были привязаны к царствующей особе. С детства их воспитывали в духе царелюбия. Однако дворянство также считало себя впра- ве оценивать действия власти и имело свое понимание справедливого и заботящегося о благе Отечества государя. Это был, как говорит П. Н. Милюков, некий «демократическо-монархический» идеал. Помазанник Божий безоговорочно воспринимался в том случае, если от него не исходила опасность для «дворянского достоинства». Благородное сословие тоже хорошо усвоило мысль, что земной властелин «временен», и вполне считало возможным решить проблему силовыми методами, о чем ярко свидетельствует череда дворцовых переворотов.
Помимо этого, отечественная элита хорошо усвоила тезис Петра о «Славе России». Патриотические идеи в дворянской среде были чрезвычайно сильны. Россия для них – «ощущаемая всем существом, близкая сердцу реальность» [8]. При этом господствовала уверенность в том, что только дворянство в состоянии спасти Отечество.
Уже в XVIII в. критика действий правителя стала делом обыденным, под «огонь» которой попадали и конкретные решения, и образ жизни, и личные связи. Наилучшим доказательством того, что массовое сознание усвоило новые взгляды по отношению к власти, является эволюция воззрений российских просветителей, которые не только зафиксировали наличие новых тенденций в разных слоях общества, но и начали анализировать возможности повышения эффективности государственной власти. Еще в середине века В. Н. Татищев, А. Д. Кантемир, М. В. Ломоносов считали, что отечественные проблемы могут быть решены с помощью просвещенного монарха. Они верили в могучую силу образования, науки, которые устранят невежество, темноту, забитость русского народа.
В последней трети XVIII в. идея «просвещенного абсолютизма» подверглась резкой критике, появились проекты ограничения самодержавия и парламентские настроения. Даже М. М. Щербатов, ярый консерватор, непоколебимый сторонник сохранения крепостного права, позволял себе открыто указывать на ошибки в государственной деятельности монаршей особы.
Представители зрелого этапа русского Просвещения, Н. И. Новиков и А. Н. Радищев, фактически, уже открыто выступали против существующей власти. Оба просвети- теля прошли через арест и заключение, может быть потому, что именно они первыми показали, что русский трон не такой уж прочный, как кажется на первый взгляд. Как известно, ХIХ в. был ознаменован открытыми выступлениями против существующего порядка.
Судя по отношению дворян к власти, у наших монархов никакого реального самовластия не было. Они и шагу не могли сделать без согласия правящей элиты. «Иные ревнители этого ветхого порядка воображали, что они защищают царское самодержавие, и противопоставляли эту свою идею эгалитарному народовластию. На самом деле никакого самодержавия в петербургский период русской истории не было. Сами цари были игрушкою в руках правящих классов. И романтикам не следует тешить себя напрасно мечтою о “сы-новстве”' народа и о “царе-батюшке”», – справедливо утверждает Г. Чулков [9].
Таким образом, хоть и был русский государь наделен божественной властью, ни для народа, ни для имущего класса он никогда не представлялся «персоной нон грата». Человек получил право не только оценивать действия власти, но и забыть на время о главном требовании – послушании, если оригинал не соответствовал идеалу.
Любопытно, как в глубинке отреагировали на свержение самодержавия: «Февральская революция прошла в Саратове без каких-либо осложнений, в гимназии даже занятия не прерывались, – вспоминает Е. Кушева. – Были сняты царские портреты, в церквах из богослужения были исключены упоминания о царской фамилии. Никаких собраний учащихся у нас в гимназии не происходило. И с нашими преподавателями, и даже между собой мы мало говорили о политических событиях» [1].
Пророческими оказались слова А. Кони, который писал: «У нас носятся с народной любовью к самодержавию, но никакой действительной любви народ не имеет. И человек, проезжающий в трех поездах чрезвычайной скорости, причем крестьян гонят в шею при малейшем приближении к линии охраны, – для них совершенно чужой. Самодержавие рухнет в один прекрасный день, как глиняная статуя, и все, что говорится и пишется об отношении к нему народа, как к чему-то священному, не что иное, как сказки Laboule, названные им “Contes pour entendre debout” (“Сказки, которые следует слушать рять старые сказки об авторитарности массо-стоя” – фр.)» [4]. Так есть ли смысл повто- вого российского мышления в начале ХХI в.?
Список литературы Парадоксы общественного сознания: стереотипные представления о власти в русской истории
- Воспоминания Е. Н. Кушевой//Отечественная история. -1993. -№ 4. -С. 130.
- Домострой: Сборник. -М., 1991. -С. 27.
- Иоанн митр. Русская Симфония: Очерки русской историософии. -СПб., 1998. -С. 66.
- Кони А. Ф. Избранное/А. Ф. Кони. -М., 1989. -С. 191.
- Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры/П. Н. Милюков. -М., 1993. -В 3 т. Т. 2. -Ч.1. -С. 85.
- Плеханов Г. В. История русской общественной мысли/Г. В. Плеханов. -М., 1917. -Т.III. Ч. III. -С. 85.
- Три века: Россия от смуты до нашего времени: В 6 т. -М., 1991. -Т. 2. -С. 32.
- Трубецкой С. Е. Минувшее/С. Е. Трубецкой. -М., 1991. -С. 45.
- Чулков Г. И. Императоры/Г. И. Чулков. -М., 1991. -С. 3.