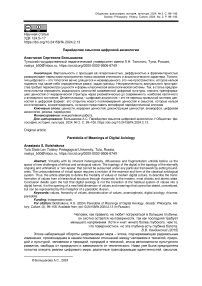Парейдолия смыслов цифровой аксиологии
Автор: Большакова А.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
Виртуальность с присущей ей гетерогенностью, диффузностью и фрагментарностью разворачивает перед нами пространство новых вызовов этического и аксиологического характера. Топология цифрового - это топология вечно длящегося и незавершенного, это «не-пространство», которое нельзя подвести под какие-либо определенные рамки, задав границы. Неограниченность виртуального пространства требует пересмотра сущности и формы классической аксиологической системы. Так, в статье предпринята попытка определить модальность ценностей современной цифровой культуры, описать трансформацию ценностей от иерархической структуры через ризоматическую до современного, наиболее хаотичного и атомарного состояния. Делается вывод - цифровая аксиология - это не переход привычной системы ценностей в цифровой формат, это открытие нового поля/измерения ценностей и смыслов, которые нельзя констатировать, конкретизировать, но можно представить метафорой парейдолической иллюзии.
Ценности, иерархия ценностей, деконструкция ценностей, анаморфоз, цифровая аксиология, ризома, парейдолия
Короткий адрес: https://sciup.org/149145345
IDR: 149145345 | УДК: 124.5+17 | DOI: 10.24158/fik.2024.2.13
Текст научной статьи Парейдолия смыслов цифровой аксиологии
Человек, как правило, не любит погружаться в большие глубины, он охотно остается на поверхности, так как последняя требует меньшего напряжения. Хотя и «нет ничего более глубокого, чем то, что поверхностно», но эта глубина есть глубина болота.
В.В. Кандинский (2015)
Эпоха набирающей обороты цифровизации мира – эпоха, подчеркивающая радикальные изменения, произошедшие в нашем понимании отношений между человеком и техникой, природой и культурой, человеком и природой, природой и техникой, эпоха автономности культурного развития, свободы от природного и зависимости от технического. Нами уже была предпринята попытка описать реалии цифрового мира, различные трансформации идентичностей, смыслов,
процессов, и данные описания по большей части касались непременно негативных аспектов цифровизации, ее объективирующей силы. В данной же статье нам бы хотелось коснуться того, может и небольшого, но значимого положительного потенциала цифровых деформаций, который в аксиологической плоскости способен дать Человеку не омертвение и зависание в точке виртуальности (в ее эрзаце? - моменте объективации), а хоть и ускользающее и туманное, но обещание уже субъективирующей бифуркации.
От манифеста Протагора «Человек есть мера всех вещей» (Платон, 1936: 32), через античное понимание человека как части физиса, возникла первая иерархичная аксиологическая конструкция - классификация составляющих блага по Платону. От тезиса Фомы Аквинского «Человек - это единство, ансамбль тела, которое в смысле субстанциональном является материей, и души, которая является для тела формой» (Степанович, 2018: 243), через средневековые представления о человеке как о части божественного творения и о благе как о центральном концепте метафизики и этики, возникла типично схоластическая классификация ценностей, ретранслятором божественной сущности которой являлся сам человек (и, возможно, стоит вести речь о ценностях Бога, а не ценностях Человека). От постулата М. Шелера «Человек - это в известном смысле все» (Шелер, 2022: 7), через нововременное осмысление свободы Человека, лежащей в поле нравственности, базировавшейся на априорных ценностях, продуцируемых разумом (И. Кант), возникла концепция ценностей трансцендентных по отношению и к бытию, и к познающему субъекту (данная мысль впоследствии развита Г. Риккертом). М. Шелером, Н. Гартманом и пр. были выстроены иерархии ценностей, имеющие феноменологическую форму и достаточно однозначный порядок (от высших к низшим). На сегодняшний же день сложно представить определение Человека, описывающее и его самого, и окружающий его культурный фон во всем многообразии. Более того -нам представляется необходимым отметить, что этого делать и не нужно, ведь «можно поручиться - человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» (Фуко, 1977: 18), а любые рамки, определения, констатации есть намеренная стигматизация.
Пролегомены к цифровой аксиологии . Стало привычным говорить об «этическом измерении» человека и культуры, и речь, разумеется, не ведется о количественном выражении этического. Мы говорим о плоскости или культурном срезе (пласте) этического. Можем ли мы допустить, что существует гипотетически иная плоскость, на которую проецируются ценности этики? Допустим (как допускали «классические» этические/аксиологические системы), что основная ценность - жизнь человека, или просто - человек как ценность. Возможно ли обратное допущение -искаженное представление такой ценности на «новой плоскости, в новом измерении»? Возможна ли инвертированная перспектива в этике (?), либо «растяжение» и/или «свертывание» ценности, сходно трансформации «загадочного объекта» в центре картины «Послы» Ганса Гольбейна Младшего, происходящее при фактической смене угла зрения. В данной статье, описывая аксиологические метаморфозы, происходящие в виртуальном пространстве, мы вслед за немецким живописцем попробуем допустить такой эстетико-геометрический образ, «оптический Анаморфоз», и зададимся вопросами: возможно ли оправдание (объяснение) античеловеческой этики и античеловеческих ценностей? Или возможно ли обратное прочтение вопроса - не является ли «общечеловеческая этика» и «общечеловеческие ценности» таким же продуктом (инверсией, ловушкой восприятия)? Есть ли вероятность, что наша плоскость (измерение) также искажает «первоисточник», который в подлинном варианте мог бы не просто оспорить «ценность» человеческих ценностей, но и был бы противопоставлен им?
Можно полагать, «человек становится собой, лишь находясь в отношении к своему-Иному и к самому себе как к Иному» (Каширин, 2022: 95), вне Иного субъект не способен достичь единства (целостности) и всегда погружен во тьму опустошения - бездну объективирующего и объективированного ужаса. Еще с модерном и индустриализацией человек ушел далеко за пределы божественного творения, «поле» нравственности стало постепенно метафоризироваться, и мир перестал быть миром-в-мире, а стал миром, с которым человек должен был бороться. Но только тогда человек, как своеобразная антропологическая константа, стал способным определять себя в Ином, выходить за рамки самого себя, т. е. трансцендироваться (Э. Фромм) - рожденный из единства, он заброшен в мир фрагментарности и нестабильности, вынужден существовать на протяжении всей жизни внутренне обособленно. Природа и человек были отделены друг от друга, мир стал образом и объектом, а ценности перестали нуждаться в строгой иерархичности, стали фундаментом новой цифровой онтологии, системой координат цифровой экзистенции, нелинейной, динамичной и текучей.
После структуралистской попытки отказа от субъекта, постструктуралистской манифестации смерти субъекта, и затем тотальной элиминации субъекта - (объектно-ориентированная онтология Г. Хармана) своеобразная онтология/антропология разрушения Человека концептуализировалась и закрепилась на хоть и весьма неоднозначном, но прочном трансгуманистическом фундаменте. Мир вещей, субстрат, субъект, онтология постепенно заменились языком, текстом, а затем цифрой. В мире цифры – виртуальной субъектности (объектности?) и цифровой идентичности ценности, как это не парадоксально, остались в практически прежней позиции внешне (они все также всепроникающи и определяют «смысл и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка» (Лосский, 1931: 1), как писал Н.О. Лосский), но внутренне значительно трансформировались. Человек больше не бытие, посредством которого существуют ценности (Сартр, 2009: 626), он существует посредством ценностей цифрового мира, а они, в свою очередь, также определяют личную топологию каждого и топографию всего пространства вокруг. Современные реалии, таким образом, не исключают аксиологию, они выводят ее на новый уровень, делают ее эскапическим пространством галлюцинаторных наваждений (но все же, наваждений спасительных – бегство не только От, но и К).
По ту сторону ризомы . «Цифровая аксиология выстраивается путём наделения новым смыслом многих традиционных ценностей культуры, а также формирования принципиально новых ценностных ориентаций, которые выступают продуктом собственно эпохи цифровизации» (Тимофеев, 2019: 74). Эти новые смыслы уже существующих ценностей не-историчны, современные цифровые воспоминания не взывают к историческому взгляду, обращенному в прошлое, они также не направлены на явную форму проекции в будущее. Эти смыслы сменяемы и недолговечны, объединяющие в себе Время и Вечность, мгновение и длительность, существуя, тем не менее, в беньяминовском Jetztzeit (сейчас-время (Беньямин, 2012)). «Отсутствие исторического смысла – наследственный порок всех философов» (Ницше, 1990: 12), – писал когда-то Ф. Ницше. Пренебрежение исторической неразрывностью, так явно осуждавшееся Ницше, которое впоследствии своими текстами опровергал М. Фуко, сегодня, в мире цифры, вспыхивает с новой силой. Оторванность от истории (или, скорее, ее ложное, галлюцинаторное переописание – первородный грех Цифры).
И если ранее (до начала абсолютизации цифрового) линейная структура ценностей могла быть представлена метафорой дерева, развивающегося через последовательные дихотомии (метафорой межцисциплинарной, или даже внедисциплинарной, применимой практически во всех сферах жизни и для разных целей – мнемонические техники, генеалогические процессы и связи, моделирование процесса организации знаний, истории и эволюции и пр. (дарвинистское древо жизни, древесная модель литературной истории Ф. Моретти)), то в эпоху постмодерна она реактивировала размышления о нелинейной структуре ценностей, представленной ризоматиче-ски – как паутина корневища, берущая начало из центра (высшей ценности), которая, расширяясь, постоянно трансформировала все множественности ценностей (любое количество точек), составляющих ее. Такая система ценностей актуализировала отказ от социальной эволюции и однолинейных генеалогий в интерпретации. Ризоматический переворот, описанный Делезом и Гваттари, являющийся ключом к исследованию множественной идентичности, поставил под сомнение не только эпистемологическую основу гуманитарных дисциплин, но и привычную, «классическую» аксиологию. Они (Делез и Гваттари) отмечали, что в условиях высокого капитализма человек потерял ощущение того, как «вещи» существуют на самом деле (Делез, Гваттари, 2010). Ризоматическая система ценностей, таким образом, больше не имеет стержневого объединяющего начала, единство целого сохраняется, но оно представляет собой набор пространств, которые могут дрейфовать, пересекаться, мутировать до бесконечности, но которые невозможно центрировать или замкнуть. На сегодняшний момент нелинейность ценностей может быть переосмыслена в рамках еще большей «нелинейности»: ценности не «собираются» в своеобразную ризому, которая так или иначе имела определенный исток, хоть и дальнейшие ответвления были не более, чем серией случайных рекомпозиций. Они хаотичны, атомарны, их взаимосвязи и пересечения случайны, а ощущение «утраты вещей» возведено в Абсолют в связи с наличием гетеротопических по своей природе виртуальных пространств, способных симулятивным образом продуцировать подобия вещей, обещания вещи.
Точка и линия на (виртуальной) плоскости. Подобно тому, как, по словам В.В. Кандинского, «беспредметная живопись не есть вычеркивание всего прежнего искусства, но лишь необычайно и первостепенно важное разделение старого ствола на две главные ветви, без которых образование кроны зеленого дерева было бы немыслимо» (Кандинский, 2015), современная система ценностей – это не вычёркивание всех прежних ценностей и подмена их некоей цифровой оппозицией неструктурированных ценностей, это лишь еще большее дробление и «классической» древесной структуры, и «аксиологической» ризомы, без которого новый модус онтологии был бы невозможен. Здесь, на наш взгляд, уместна будет ссылка на работу М. Хайдеггера «Преодоление метафизики»: «Уходя, метафизика есть как прошедшее. Уход не исключает, а наоборот, предполагает, что теперь метафизика впервые только и вступает в свое безраздельное господство среди самого сущего как это последнее в безыстинном образе действительности и предметности. В свете своего раннего начала метафизика прошла одновременно в том смысле, что пришла к концу. Конец может длиться дольше, чем вся предыдущая история метафизики» (Хайдеггер, 1993). Эволюция мышления в исторической перспективе есть, по сути, отложенное мышление – мышление о том, как надо или желательно мыслить, но не являющееся мыслью в безоценочном понимании (смысле), и, рассуждая о конце (уходе) метафизики, необходимо вести речь о мышлении, не требующем своего основания/обоснования (фундамента в виде исторической преемственности). Своеобразной метафорой здесь может выступить резюме Л. Витгенштейна к его Трактату (мы имеем ввиду так называемую «уловку 6.54»1: «Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце концов, уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью – на них – выше их (он должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как он взберётся по ней наверх). Он должен преодолеть эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир» (Витгенштейн, 2009)). Но если австрийский философ в определённом смысле мистичен, то весь пафос постмодернистского дискурса, вектор которому был задан, в первую очередь, Ф. Ницше (духовными наследниками которого являются М. Хайдеггер, Т. Адорно, Ж. Батай и пр.), окрашен не мистикой, а размышлениями о подлинной вне-исто-рической экзистенции той самой единственности События, в которой парадоксальным образом умещается историческое и «вечно-теперешнее» (снова Jetztzeit).
Конец может длиться дольше истории – именно на этом изречении наиболее верно, по нашему мнению, ставить акцент. История нравственных ценностей с присущей ей иерархичностью, градацией от высшего к низшему, пришла к финалу, к концу, но это ни в коем случае не отсылает нас к стагнации, статичности, краху. Это новая длительность, длящееся молчание и, возможно, оксюморон – «длящаяся точка» (а «точка есть молчание» – об этом нам напоминает Кандинский (Кандинский, 2015)). В данной статье мы часто упоминаем мысли художника по той причине, что его работы (не ограниченные лишь полем живописи – в частности, сборник размышлений «Точка и линия на плоскости») помогают пролить свет на сложный ландшафт виртуального пространства. Сходно тому, как точки и линии организовывают пространство абстрактного полотна, нелинейные и беспорядочные ценности дают возможность аксиологии осуществиться в виртуальности (экзистировать в вечном конце, в вечном преодолении и превозмогании забвения бытия). Цифровая аксиология размещена на плоскости, виртуальной плоскости, и «придать объем» ей можно только иллюзорно, усмотрев сущность ценностей в пласте небытия. Плоскость может быть глубокой, но эта плоскость – всегда плоскость болота (см. эпиграф), именно поэтому, какими отчаянными бы не выглядели наши попытки вести речь о не-объективируемости субъекта в виртуальности, о его длительности или «длящности» (о положительном измерении цифрового мира), это всегда некое застывание (подобное тому, как можно завязнуть в болоте), хоть и дающее возможность инкапсуляции субъективной. В виртуальной, «топкой» плоскости субъект захвачен объективирующими взглядами, потоплен в мире не-единичности, но ему становится доступен опыт, экзистенциальный и травматичный, опыт встречи с глазами Двойника, со взглядом Я-другого, подобный ощущению погружения в калейдоскоп бесконечных зеркал, похищающих твой, собственный , образ.
(От)меняя ценности: цифровая парейдолия. Возвращаясь к рассуждению о ценностях, цифровая аксиологическая система – это вечное движение рекомпозиции, которое всегда не просто избегает центра (центра нет), строгих этических, исторических, политических, социально-экономических (и любых других) детерминаций; движение, больше не активизированное гуманистическим стремлением к жизни, противостоящим символическому порядку Смерти, – это система намеков, призрачных следов утраченных ценностей, опять же, обещания ценностей. Нам кажется наиболее верным описывать ценности, существующие в мире цифры, в терминах парейдолии – иллюзии распознавания химерической формы в случайности реальности, проецирования смысла на асемантическое расположение элементов. Морально-этические ориентиры, ценности субъекта, объективизированного цифровым пространством, можно мнимо распознать, как в эфемерных облачных образованиях (что достаточно метафорично – цифровые облачные хранилища, дом цифровой памяти в виртуальности, сродни облакам из реального мира, в которых человеческое сознание угадывает причудливых существ: в этом обман цифрового мира – воспоминания и ценности фиктивны, как и воспроизведенные мозгом иллюзорные образы). Но не может быть никакой парейдолии, даже в самых деформированных и фантастичных, фантазматич-ных ее проявлениях, кроме парейдолии уже известного и уже существующего, уже воспринятого, проявленного. Так и цифровые ценности, как уже было отмечено выше, не изменились внешне, это все те же ценности, описанные и осмысленные философами и мыслителями на протяжении человеческой истории, но форма, которую они принимают – это всего лишь форма, суррогат первоначальных ценностей, то, что хочется увидеть и домыслить. Внутренне за этой сновидческой формой скрывается – что? Хаотичный и фрагментарный «смысл» цифровых ценностей как бы вшит в галлюцинаторный нарратив цифрового, аксиология виртуального пространства помещена в плоскость, застланную туманом означающих, ее задача – сделать смысл явным, перео-писав его через бессмыслицу, перфомативно сделать форму смысла актуальной, легитимной (мы здесь имеем в виду, что бессмыслица – это не отсутствие смысла, это смысл в пока еще не декодированной форме, и может, стоит вести речи о парейдолии смысла). Цифровая аксиология, как и цифровая этика – это попытка, скорее, не перевести аксиологию в цифровой формат (как, к примеру, это может быть с цифровой экономикой или цифровым образованием), это попытка разглядеть невидимое в видимом, услышать неслышимое в слышимом – придать знакомую форму незнакомому (т. е. ценностям совершенно нового порядка, нового измерения), открыть не новые ценности, а новое возможное поле ценностей и смыслов. В связи с этим, нам кажется важным описывать не сущность современных ценностей (т. е. не какие они, эти ценности), а то, на каком уровне они находятся, в какое измерение цифрового мира они вписываются.
Ценности цифрового мира позволяют новой, цифровой идентичности, несмотря на ее децентрализованность, стать идентичностью практически коллективной (сходной коллективному гротескному телу, рождающемуся и умирающему (Бахтин, 1990)), все более обезличенной, но потенциально общей, объединенной силой цифровой, вечной памяти (Большакова, 2023б; 2023в). Вероятно, в этом процессе, как бы это не казалось парадоксальным, можно усмотреть нечто положительное (или к таковому приближенное), нечто, способное переместить на второй план экзистенциальную заброшенность и внутреннюю обособленность субъекта, о который размышлял Фромм (Ялом, Франкл и пр.), замаскировать, растворить или, по меньшей мере, ослабить боль враждебности «настоящей» реальности, которая всегда отчуждена (тоже парадокс). Это, возможно, попытка сепарироваться (опыт эмансипации, опыт отрыва от настоящего в создании нового настоящего, нового присутствия) от историчности «формы» субъекта, но не от субъекта самого, как в случае объектно-ориентированной онтологии или смерти субъекта, попытка «захватить», «уловить» те «вещи», которые в представлении Делеза перестали субъектом ощущаться. Это не десубъек-тивация в прямом смысле, это снова обещание ее (весь цифровой мир своего рода обещание чего-то, на это наложили свой отпечаток трансгуманистические фантазии). Таким образом, обретение субъектом подлинной целостности (опять же, длительности – в вечном «преодолении») в виртуальном пространстве возможно, и возможно оно лишь при не-констатируемости его «формы».
Как субъект теряет свою идентичность/цельность/саму субъектность при констатации, так и ценность не может быть записана в качестве конечной/конкретной дефиниции, иначе бы это противоречило витгенштейновской установке на потерю смысла, «обнаруженного» в реальном бытии. Ценность обесценивается, когда мы ее констатируем. В данном контексте следует прибегнуть к понятию деконструкции, предложенному М. Хайдеггером и впоследствии вдохновившему Ж. Деррида на апофатическую попытку его экспликации. Деконструкция – это непрекращающаяся длительность, постоянная ссылка к Другому (различ а ние, подчеркивающее процессуальность). «Деконструкцию логоцентризма Деррида начинает с деконструкции знака, затрагивающей краеугольные камни метафизики. Знак не замещает вещь, но предшествует ей, он произволен и немотивирован. Означаемого как материального объекта в этом смысле не существует, знак не связывает материальный мир вещей и идеальный мир слов, практику и теорию. Означающее может отсылать лишь к другому означающему, играющему, таким образом, роль означаемого»1. Данная логика адресуется и ценностям, представленным в цифровом пространстве – ценность не указывает на ценность явления, она указывает лишь на другие ценности и тем самым подчеркивается ее (ценности) длительность. В сфере констатаций, как уже было отмечено выше, ценность неизбежно приходит к своему обесцениванию (и это не методологическая метафора). В данном случае Витгенштейн со своей отброшенной лестницей не затягивает нас в интеллектуальную игру. Сфера констатаций ценностей (и смыслов) заостряет в пределе противоречие между ценным и не-ценным, отвлекаясь от смысла ценности и настаивая на «ценности» самого противоречия. Данная схема близка ницшеанскому ресентименту, где ценность аскетики инвертируется до придания ценности Ничто (ценность отказа от соблазнов мира овеществляется в настоятельном требовании наделения ценностью не сам отказ, а отсутствие бытия – небытие (Ничто)).
Именно такая объяснительная модель делает возможным объяснение и тем самым оправдание сосуществования «абсолютной ценности человеческой жизни» и возможности (и непременной актуализации этой возможности на основании высшей ценности) расчеловечивания – фетишизации человеческой жизни, осмысленного и закономерного – законного (легитимного) убийства (история культуры изобилует примерами – воплощение идеала сверхчеловека, его абсолютизация привели к Холокосту, библейские истины породили целую эпоху насилия, коммунистические идеи с их ценностями свободы и равенства закрепили своего рода «этику террора» (термин (А. Зупанчич, 2019))).
Другими словами, принципиальное качество деконструкции ценностей – их экстерриториальность, и мы имеем ввиду здесь не столько отрыв виртуальности от реальности и существование «отдельного» мира (беспространственного пространства), сколько то, что вернее всего предвосхитил Деррида в своем апофатическом описании («Письмо японскому другу»), намекая на не-место действия/влияния деконструкции, на «некий мотив»: «Деконструкция имеет место, это некое событие, которое не дожидается размышления, сознания или организации субъекта – ни даже современности. Это деконструируется. И это здесь – вовсе не нечто безличное, которое можно было бы противопоставить какой-то экологической субъективности. Это в деконструкции (Литтре говорил: “деконструироваться... терять свою конструкцию”). И вся загадка заключатся в этом “-ся” в “декон-струироваться”, которое не есть возвратность какого-то Я или сознания. Я замечаю, дорогой Друг, что, пытаясь прояснить одно слово с целью помочь его переводу, я тем самым лишь умножаю трудности: невозможная “задача переводчика” (Беньямин) – вот что также означает “деконструкция”. Если деконструкция имеет место повсюду, где имеет место это, где налицо нечто (и это, таким образом, не ограничивается смыслом или текстом – в расхожем и книжном смысле этого последнего слова), остается помыслить, что же происходит сегодня, в нашем мире и нашей “современности”, в тот момент, когда деконструкция становится неким мотивом, со своим словом, своими излюбленными темами, своей мобильной стратегией и т. д.» (Деррида, 1992).
Мы хотим сказать, что новая цифровая онтология – пространство (или не-пространство) деконструкции, плоское, но «парейдолически» объемное, (достраиваемое) высвечивает лакуну в «привычном» евклидовском пространстве, перемешивая в меланхолическом (ностальгическом) скачке точки (снова – привычных) экзистенциальных опор. Галлюцинаторные, парейдоли-ческие образы виртуальности подобно бахтинской карнавальной логике (изнаночной, à l`envers (Бахтин, 1990)) выворачивают наизнанку, рушат линейность и стабильность человеческого измерения (всего, к чему бы подходил эпитет человеческое ), они тем самым дают субъекту возможность сновидчески вернуться в стадию до захваченности человеческим образом, до осознания собственной телесности, до вечной череды идентификаций в образах Другого (Других), до переживания опыта жути в бесконечных и тщетных попытках избавиться от «безжалостного топоса» собственного тела (Большакова, 2023а).
Таким образом, парейдолия ценностного смысла формирует цифровое пространство вокруг себя, как оптические иллюзии или смена угла зрения формируют архитектурное пространство или живописное полотно (М. Хайдеггер в «Истоках художественного творения» говорил о антропологичности искусства, обязательной необходимости наблюдателя для «вступления сущего в несокрытость своего бытия» (Хайдеггер, 2008)). Парейдолически устроенные ценности вспыхивают, затухают и снова вспыхивают, организовывая вокруг себя такое же мерцающее пространство, определяя его границы ( расширяя , как расширяется смысл обыкновенных крестьянских башмаков до всеобщей сущности вещей на одноименной картине Ван Гога, когда мы «достраиваем» полотно за пределы рамки холста; сужая , как сужается пространство произведений Энди Уорхолла, зеркалящих/тиражирующих атрибуты массовой культуры). Пример расширения пространства на картине «Башмаки», описанный Хайдеггером, аналогичен парейдолическим эффектам актуализации и расширения виртуального измерения: субъект всегда ограничен конкретной физической рамкой (будь то рама картины или естественное ограничение зрительного восприятия), но, вглядываясь в произведения искусства, он видит мир за гранью полотен. Так, мы допускаем возможность новой цифровой (аксиологической/этической) плоскости, выстроенной на парейдолической образности, на циркуляции мифических смыслов, которая в бесконечном круговороте утрат и новых рождений позволяет субъекту путем личностных смыслообразований наконец избавиться от экстатической историзации собственного прошлого и подойти к осознанию – чтобы отыскать свое место в пространстве истины (пусть это и своего рода топологическое выворачивание), пульсацию присутствия в системе (виртуальных) экзистенциальных координат, нужно анаморфически это пространство достроить.
Список литературы Парейдолия смыслов цифровой аксиологии
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М., 1990. 543 с.
- Беньямин В. О понятии истории // Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения: сб. статей / сост. И. Чубаров, И. Болдырев. М., 2012. С. 237–253.
- Большакова А.С. Ускользающая телесность: утопический потенциал современного кинематографа в свете идей Мишеля Фуко // Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2023: мат. Всерос. науч.-практ. конф. с международ. участием / редкол.: Ж.В. Мурзина [и др.]. Чебоксары, 2023а. С. 298–308. https://doi.org/10.31483/r-107683.
- Большакова А.С. Этика цифровой идентичности // Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы – 2023. Разумность. Практичность. Человечность: мат. XV Международ. конф. СПб., 2023б. С. 211–212.
- Большакова А.С. Эффект вечности памяти на фоне цифровых мутаций // Актуальные вопросы гуманитарных и со-циальных наук: от теории к практике: мат. II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / редкол.: Ж.В. Мурзина [и др.]. Чебоксары, 2023в. С. 82–86. https://doi.org/10.31483/r-107127.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / пер. с нем. И. Добронравова и Д. Лахути; общ. ред. и предисл. В.Ф. Асмуса. М., 2009. 133 с.
- Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / пер. с фр. и послесл. Я.И. Свирского; науч. ред. В.Ю. Кузнецов. Екатеринбург; М., 2010. 895 с.
- Деррида Ж. Письмо к японскому другу / пер. А. Гараджи // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 53–58.
- Зупанчич А. Этика реального. Кант и Лакан. СПб., 2019. 334 с.
- Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости: сборник. М., 2015. 240 с.
- Каширин А.Ю. Открытость феномена человек в поле историко- феноменологического анализа в западноевропейской философской традиции // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2022. № 4 (44). C. 93–99.
- Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. Париж, 1931. 135 с.
- Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. М., 1990. 390 с.
- Платон. Теэтет / пер. с греч. и прим. Виктора Сережникова. М., 1936. 195 c.
- Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М., 2009. 642 c.
- Степанович В.А. История философии: курс лекций: в 2 т. Т. 1: Исторические типы классической философии. М., 2018. 457 с.
- Тимофеев А.В. Становление цифровой аксиологии: ключевые понятия и проблемы // Современные философские исследования. 2019. № 3. C. 73–79. https://doi.org/10.18384/2310-7227-2019-3-73-79.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. М., 1977. 488 c.
- Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. с нем. А.В. Михайлова. М., 2008. 528 с.
- Хайдеггер М. Преодоление метафизики. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993. 447 c.
- Шелер М. К идее человека / пер. с нем. А.Н. Малинкина. М.; СПб., 2022. 140 c.