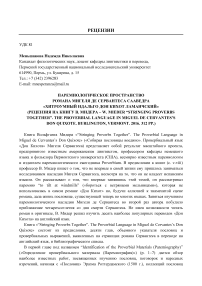Паремиологическое пространство романа Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон КИХОТ ЛАманчский» (рецензия на книгу В. Мидера – W. Mieder “Stringing proverbs together”. The proverbial language in Miguel de Cervantes’s Don Quixote. Burlington, Vermont. 2016. 312 pp.)
Автор: Меньшакова Надежда Николаевна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Рецензии
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147230519
IDR: 147230519 | УДК: 81
Текст статьи Паремиологическое пространство романа Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон КИХОТ ЛАманчский» (рецензия на книгу В. Мидера – W. Mieder “Stringing proverbs together”. The proverbial language in Miguel de Cervantes’s Don Quixote. Burlington, Vermont. 2016. 312 pp.)
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
РОМАНА МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА СААВЕДРА «ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ» (РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В. МИДЕРА – W. MIEDER “STRINGING PROVERBS TOGETHER”. THE PROVERBIAL LANGUAGE IN MIGUEL DE CERVANTES’S DON QUIXOTE. BURLINGTON, VERMONT. 2016. 312 PP.)
Книга Вольфганга Мидера «“Stringing Proverbs Together”. The Proverbial Language in Miguel de Cervantes’s Don Quixote» («Собирая пословицы воедино». Провербиальный язык «Дон Кихота» Мигеля Сервантеса) представляет собой результат масштабного проекта, предпринятого известным американским лингвистом, профессором кафедры немецкого языка и фольклора Вермонтского университета (США), всемирно известным паремиологом и издателем паремиологического ежегодника Proverbium. В предисловии к книге (c. v-viii) профессор В. Мидер пишет о том, что не впервые в своей жизни ему пришлось заниматься исследованием наследия Мигеля Сервантеса, несмотря на то, что он не владеет испанским языком. Он рассказывает о том, что впервые занявшись этой темой, он рассматривал паремию “to tilt at windmills” («бороться с ветряными мельницами»), которая не использовалась в самом романе «Дон Кихот» но, будучи аллюзией к знаменитой сцене романа, дала жизнь пословице, существующей теперь во многих языках. Заняться изучением паремиологического наследия Мигеля де Сервантеса во второй раз автора побудило приближение четырехсотлетия со дня смерти Сервантеса. Не имея возможности читать роман в оригинале, В. Мидер решил изучить десять наиболее популярных переводов «Дон Кихота» на английский язык.
Книга «“Stringing Proverbs Together”. The Proverbial Language in Miguel de Cervantes’s Don Quixote» состоит из предисловия, десяти глав, объемного указателя пословиц и провербиальных выражений, выявленных на страницах романа Сервантеса в переводе на английский язык, и библиографического списка.
В первой главе под названием “Identification of the Proverbial Materials (Paremiography)” («Определение провербиального материала (Паремиография)») (р. 1–7) дается обзор наиболее известных работ, посвященных изучению пословиц, поговорок и народных изречений, начиная с «Пословиц» Эразма Роттердамского (1500 г.), коллекций пословиц
Мартина Лютера (1530 г.), серии картин «Нидерландские пословицы» написанных маслом Питером Брюгелем старшим в 1559 г. Среди наиболее значимых для мировой культуры писателей, в чьих произведениях мы встречаем наибольшее число пословиц и ярчайших изречений, называются Франсуа Рабле (Франция), Ганс Сакс (Германия), Вильям Шекспир (Англия), Лопе де Вега, Мигель Сервантес (Испания) и др. Перечисляются различные испанские сборники и словари пословиц и поговорок XVI–XIX вв. Данный обзор достаточно эксплицитно демонстрирует, что словари испанских пословиц, начиная с XVII века содержат большое количество пословиц, зафиксированных Сервантесом в «Дон Кихоте». Тем не менее, В. Мидер отмечает, что исследователи до сих пор не сошлись в едином мнении о точном количестве паремий, использованных Сервантесом. Данный факт объясняется тем, что Сервантес вкладывал в уста своих героев не только собственно пословицы, но и аллюзии на них, пословицы, намеренно искаженные автором, а также провербиальные выражения и провербиальные сравнения. Первые исследования текста романа «Дон Кихот» на предмет выявления в них паремий были сделаны в 1832 г. Это был список пословиц на испанском и их перевод на французский язык, расположенный в алфавитном порядке и помещенный в конце четвертого тома перевода романа «Дон Кихот» на французский язык, выполненный М. Ольнайез. Список включал в себя 271 текст. С тех пор десятки работ были написаны о паремийном наследии Сервантеса, наиболее впечатляющим по объему и выполненной работе В. Мидер называет труд Уго О. Биззарри “Diccionario de paremias cervantinas” («Словарь паремий Сервантеса») (2015 г.), содержащий около 1365 словарных статей. По признанию В. Мидера, этот труд намного превзошел все остальные работы, посвященные данной теме.
Во второй главе “Interpretation of the Proverbial Texts (Paremiology)” («Интерпретация провербиальных текстов (Паремиология)») (p. 9–15) В. Мидер проводит анализ имеющихся книг, посвященных паремиям Сервантеса. Он отмечает, что время написания романа «Дон Кихот» пришлось на золотой век паремиологии, именно в XVI–XVII вв. в Европе отмечается пик интереса к сбору и описанию народной мудрости в форме пословиц и разного вида речений сентенциозного характера. Первый более или менее детальный анализ употребления пословиц и их функций был осуществлен Элеонорой О’Кейн в работе 1950 г. “The Proverb: Rabelais and Cervantes” («Пословица: Рабле и Сервантес»). Далее последовали работы различных исследователей, концентрирующих свое внимание на речи Санчо Панса, мудрого глупца, чья речь в романе в большей степени насыщенна пословицами и другими фразеологическими единицами, которые создают юмористический эффект в повествовании и диалогах романа. В. Мидер перечисляет наиболее значимых исследователей языка Сервантеса второй половины XX – начала XXI в. В их число входят Моник Жоли, Мария Сесилия Коломби, Пилар Мария Вега Родригес, Хулия Севилья Муньос, Анхель Эстебэс Молинеро, Ньевес Родригес Вайе, Мария Тереса Барбадийо де ла Фуэнте и др. Профессор Мидер завершает главу обзором книги “Refranes, otras paremias y fraseologismos en ‘Don Quijote de la Mancha’” («Пословицы, другие паремии и фразеологизмы в романе «Дон Кихот де Ла Манча»), написанной Хесусом Кантера Ортис де Урбина, Хулией Севилья Муньос и Мануэлем Севилья Муньос в 2005 г. Он чрезвычайно высоко оценивает данную работу и особенно первую главу, в которой анализируется распределение пословиц по частям и главам романа, исследуется фольклорный аспект языка Сервантеса и рассматриваются функции и трансформации пословиц в романе.
Третья глава “The Proverbial Don Quixote as Translated World Literature” («Дон Кихот» как пример произведения переведённой мировой литературы») (р. 17–28) содержит размышления о проблемах перевода романа «Дон Кихот». В. Мидер начинает данные размышления с развернутой цитаты из романа, в которой Дон Кихот говорит о том, что перевод подобен разглядыванию гобелена с изнанки: изображенные фигуры видны, но покрыты нитями и узелками, и это разрушает прелесть самого гобелена. Занятие это бесполезное, хотя есть на свете и худшие вещи. В. Мидер также отмечает неоднократно высказанное исследователями Сервантеса мнение о том, что данный роман перевести полностью, сохранив все его своеобразие и прелесть невозможно, поскольку некоторые испанские фольклорные изречения можно лишь объяснить, но не перевести. Несмотря на это роман Сервантеса переведен на более чем 50 языков. Без видимых трудностей переводу поддаются паремии, существующие во многих языках и заимствованные из греческого и латинского языков, из Библии. Приводится обзор исследовательских работ, анализирующих множество переводов романа на разные языки: французский, иврит, немецкий. В. Мидер выражает сожаление, что подобных глубоких исследований не существует на материале американских и английских переводов. Далее приводится список двадцати переводов «Дон Кихота» на английский язык, начиная с 1612 г. и заканчивая переводом 2009 г. Конечно же, имеются исследования этих переводов в отдельности, но многие выводы, сделанные авторами этих исследований, В. Мидер находит спорными и неудовлетворительными, поскольку они не всегда связаны с переводом паремиологического пространства романа. Приводятся выдержки из работ англоязычных авторов, посвященных проблеме перевода игры слов, шуток, бессмыслиц в романе, рассматриваются конкретные примеры перевода некоторых фразеологических единиц разными переводчиками, объясняются причины затруднений. В главе подробно рассматривается критика переводов романа самими переводчиками. В завершении В. Мидер называет наиболее удачный перевод романа: это перевод, выполненный Эдит Гроссман в 2003 г. По его словам в данном переводе сохранено наибольшее количество пословиц и фразеологизмов романа, а именно: 741 провербиальный контекст, из которых 386 единиц это пословицы, 327 – провербиальные выражения и сравнения и 1 веллеризм.
В четвертой главе, озаглавленной как “Cervantes as Paremiographical Paremiologist” («Сервантес как паремиограф») (р. 29–37) В. Мидер анализирует вклад Мигеля Сервантеса в мировую культуру, осуществленный им посредством вербализации народной мудрости в тексте романа «Дон Кихот». Сервантес, по словам В. Мидера, наверняка знал существующие к тому времени коллекции пословиц и осознавал противоречивость заключенной в них мудрости. Как отмечает автор рецензируемой нами книги, “Proverbs are not universal truths but rather limited generalizations that are valid only in certain situations. […] proverbs are not a logical philosophical system, but each proverb in itself can be employed effectively as a communicative strategy in a context where its understanding insight is appropriate” (p. 29) («Пословицы это не универсальные истины, а достаточно ограниченные обобщения, которые имеют смысл только в конкретных ситуациях. […] пословицы – это не логическая философская система, но каждая пословица сама по себе может быть эффективно использована как коммуникативная стратегия в том контексте, который раскрывал бы ее суть наилучшим способом»). Именно это и осуществил Сервантес, вплетая множество элементов народной мудрости в повествование и диалоги романа. Речь Санчо Панса примечательна именно тем, что к каждому повороту речи он подыскивал подходящую по ситуации пословицу. В. Мидер убедительно доказывает это, приводя ряд цитат из романа и поясняя, в чем выражалась гениальность М. Сервантеса при написании данного произведения. Также приводятся выдержки из романа, в которых главные герои сами рассуждают о роли и смысле пословиц в речи. В. Мидер называет данные отрывки романа «метапаремиологическими» диалогами Санчо Панса и Дон Кихота и заключает, что в целом роман был «выписан» таким образом, чтобы высветить как можно больше противоречий и многозначности в народных пословицах.
В главе пятой “Proverbs by the Narrator and Minor Characters” («Пословицы повествователя и второстепенных персонажей») (р. 39–54) анализируются пословицы, вложенные автором в уста второстепенных персонажей романа и повествователя, несмотря на то, что исследователи, как правило, концентрируют свое внимание в основном на диалогах Санчо Панса и Дон Кихота. Большая часть всех пословиц, сказанных второстепенными персонажами романа и повествователем, сконцентрирована во второй части романа. В. Мидер полагает, что тот факт, что пословицы активно используют в речи не только персонажи, но и повествователь, является признаком тенденций, существующих в литературе золотого века. В. Мидер анализирует ряд контекстов, в которых повествователь использует пословицы и фразеологизмы, и объясняет, с какой целью их использовал автор. Иногда, как замечает исследователь, пословицы могут не иметь ни смысла, ни определенной функции, они просто приводятся автором ради повествования, иногда эти пословицы субъективно связаны с биографией самого автора. Второстепенные персонажи (например, герцогиня, Сансон Карраско, Камила, ее служанка Леонала, дон Антонио Морено и др.) делятся на представителей образованного общества и простой люд и все они употребляют в речи пословицы, хоть и не так часто, как главные персонажи. Подводя итог данному анализу, В. Мидер заключает, что Сервантес, несомненно, осознавал противоречивую природу пословиц и пользовался такими их свойствами как полярность, дуализм, парадоксальный характер для создания многозначности в романе.
Шестая глава рецензируемой книги озаглавлена как “Proverbial Wisdom Employed by Teresa Panza” («Провербиальная мудрость Терезы Панса») (р. 55–63). В ней рассматриваются пословицы, сказанные женой Санчо Панса Терезой. В пятой главе второй части романа приводится большой диалог между Санчо и Терезой. Пословицы в нем используются для того, чтобы призвать авторитет народной мудрости на свою сторону в бытовом споре супругов. В. Мидер подробно анализирует все их аргументы и пословицы, которые они применяют в качестве таковых. Заслуживает внимания серия шовинистских пословиц, высказанных Санчо своей жене, и замечание исследователя о том, что феминистского ответа супругу в семнадцативековой Испании Тереза дать не могла. В. Мидер высказывает мнение, что роман «Дон Кихот», несомненно, выиграл бы, если бы присутствие в нем Терезы Панса было значительнее, так как речь ее не менее интересна, чем речь ее мужа.
В седьмой главе под названием “Don Quixote’s Unexpected Proverb Repertoire” («Неожиданный пословичный репертуар Дон Кихота») (р. 65–80) рассматриваются особенности пословиц, входящих в состав речи центрального персонажа романа. В. Мидер начинает данную главу с того, что ссылаясь на работы исследователей пословиц романа, отмечает, что в целом, Дон Кихот, будучи хорошо образованным человеком, не употребляет так много пословиц, как малообразованные Санчо и Тереза, которые заменяют собственную неспособность выразить мысль внятно лаконичными народными изречениями. Тем не менее, Дон Кихот не чурается пословиц и особенно в разговорах с Санчо Панса использует их со знанием и охотой. Чаще всего, отмечает В. Мидер, Дон Кихот использует пословицы для того, чтобы предостеречь, с целью дидактической или морализаторской. С тем, чтобы поучительная сентенция была воспринята Санчо всерьез, Дон Кихот часто использует в речи слова “as the saying goes” («как гласит народная мудрость»). Он также произносит пословицы на латыни и пословицы, в которых упоминаются культурные реалии античного мира, чем вводит Санчо Панса в ступор. Кроме того, Дон Кихот зачастую не высказывает пословицу полностью, но делает лишь аллюзию к ней, называет только ее ядро (“kernel of the proverb” (p. 76)). К концу романа главные герои меняют друг друга таким образом, что даже их речь становится похожей.
Восьмая глава книги посвящена анализу пословиц Санчо Панса и носит название “Sancho Panza’s Messages as the Proverbial Wise Fool” («Сообщения Санчо Панса как легендарного мудрого глупца») (р. 81–100). В. Мидер дает характеристику персонажа, используя множество цитат из романа и иллюстрируя его натуру описывая речь героя. Как и его сеньор, Санчо часто предваряет высказывание словами «как гласит народная мудрость», но делает он это для того, чтобы придать своим словам больший авторитет, ведь опровергнуть мудрость поколений сложнее, чем слова простого оруженосца. В. Мидер также отмечает, что к концу романа речь Санчо становится более культурной, или, скорее, он заимствует из речи своего сеньора много культурных аллюзий, отчего начинает звучать как человек более образованный, чем он есть на самом деле. По тематике в пословицах Санчо профессор Мидер выделяет много анималистических паремий. В этой главе автор рецензируемого исследования раскрывает смысл названия книги “Stringing Proverbs Together”. Это именно то, что часто делает Санчо Панса в своих высказываниях: он начинает свою речь с пословицы, которая подходит по смыслу к определенной ситуации, а затем как бы «нанизывает» (“strings together”) на нить своего рассуждения одну за другой пословицы, которые зачастую уже не имеют никакого смысла. В его высказываниях зачастую нет никакого дидактического смысла, они лишь украшают повествование характерными фольклорными элементами.
В девятой главе книги “Sancho Panza’s Bottomless Sack of Proverbs” («Бездонный мешок пословиц Санчо Панса») (р. 101–128) В. Мидер еще глубже и уже в несколько ином свете раскрывает особенности провербиальной речи Санчо Панса. Автор утверждает, что беспорядочное и неосмысленное употребление пословиц этим персонажем не настолько бездумно, как может показаться на первый взгляд. В. Мидер резко критикует мнения некоторых исследователей, которые полагают, что образ Санчо Панса намеренно выписывался Сервантесом как образ тупого крестьянина, не способного разобраться даже в народной мудрости, выраженной в пословицах. Он напоминает о том, что во времена золотого века пословиц в Европе существовала настоящая литературная традиция, в рамках которой создавались произведения, заполненные пословицами и поговорками персонажей, даже сюжет и смысл в них отступали на задний план. Поэтому существующее также мнение о том, что Мигель Сервантес через образ Санчо Панса выражал низкое мнение о родном кастильском испанском языке В. Мидер яростно отметает. Наоборот, В. Мидер поддерживает мысль Р. М. Флорес о том, что провербиальная речь Санчо является характеристикой его натуры, его уникальной способностью, поскольку на любое высказывание собеседника он практически моментально реагирует посредством подходящей пословицы, и даже те, что он вспоминает и «приплетает» (или «нанизывает») к своей речи после, не возникают в его речи совсем уж наобум. Этому его умению завидует сам Дон Кихот, несмотря на всю его критику оруженосца. По словам Р. М. Флорес, мнение которого В. Мидер высоко оценивает, в первой из верениц пословиц, которую Санчо Панса выдает Дон Кихоту, присутствует ироничная двусмысленность, которую не улавливает благородный идальго и многие современные исследователи романа вслед за ним. Как отмечает В. Мидер, юмористические эффект в описании этой первой тирады из пословиц Санчо возникает совсем не из-за их неуместности, а из-за «передозировки» пословиц в конкретном фрагменте текста. Профессор Мидер продолжает подробно анализировать каждый эпизод романа, в котором Санчо Панса озвучивает свои мысли при помощи вереницы из пословиц и приходит к выводу, что собственно юмора в них, вызванного бессвязностью речи героя, нет, поскольку они отражают манеру мышления оруженосца, его умение моментально интерпретировать высказанную мысль со многих неожиданных сторон, но, вследствие неумения сказать по-другому, Санчо «сворачивает» свои вербальные реакции на каждый из аспектов объекта речи до размера народной сентенции – пословицы. Цепочки пословиц Санчо Панса использует и при разговоре с самим собой, а в ответ на критику Дон Кихота отвечает, что вина за непонимание его речи лежит на том, кто ее не понимает, он же прекрасно знает, что именно он говорит. Тем не менее, в 43 главе романа, которую исследователи охарактеризовали как метапаремиологическую, Санчо Панса впервые выдает бессмысленный набор пословиц, но делает он это, по утверждению Р. М. Флорес, намеренно, с тем, чтобы позлить своего сеньора, который в очередной раз резко раскритиковал речь слуги и посоветовал ему навсегда избавиться от дурной привычки говорить пословицами. Осмысляя все это, В. Мидер приходит к однозначному выводу, что Дон Кихот не может сравниться в живости ума с Санчо Панса, он понимает это, так как сам порой не может подобрать ни одной пословицы, применимой к ситуации, и чрезвычайно огорчается от того, что в словесных дуэлях с оруженосцем проигрывает последнему.
Десятая, последняя глава рецензируемой книги называется “Ten Translations of the String of Proverbs in Chapter 43” («Десять переводов серии пословиц из Главы 43») (р. 129–156). В данной главе В. Мидер приводит отрывок из 43 главы романа «Дон Кихот», в которой Дон Кихот и Санчо Панса спорят об использовании пословиц и Санчо выдаёт тираду состоящую из серии пословиц. Данный отрывок дается на языке оригинала 1615 г., опубликованного под редакцией Родольфо Шевиль и Адольфо Бонийа издательством Gráficas Reunidas в 1948 г. Далее В. Мидер дает соответствующие отрывки перевода этой части главы на английский язык следующими переводчиками: Томас Шелтон (перевод 1620 г.), Питер Энтони Мотто (перевод 1700 г.), Чарльз Харвис (перевод 1742 г.), Тобиас Смолет (перевод 1755 г.), Джон Ормсби (перевод 1885 г.), Сэмюэль Путнам (перевод 1949 г.), Бёртон Раффэль (перевод 1995
г.), Эдит Гроссман (перевод 2003 г.), Том Латроп (перевод 2005 г.) и Джеймс Х. Монтгомери (перевод 2009 г.).
Приложение в конце книги, озаглавленное как “Index of Proverbs and Proverbial Expressions” («Указатель пословиц и провербиальных выражений») занимает 141 страницу (р. 157–298). Это впечатляющая выборка всех пословиц и провербиальных выражений романа из перевода Эдит Гроссман. Пословицы приведены в алфавитном порядке по стержневому слову, которое выделено полужирным шрифтом. Далее приводится развернутый контекст из книги, в котором данная пословица или выражение были употреблены в тексте. Это позволяет при необходимости интерпретировать смысл, который автор в них вкладывал при написании романа.