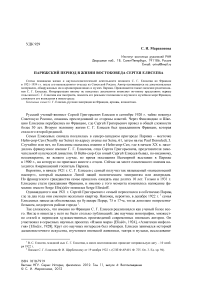Парижский период в жизни востоковеда Сергея Елисеева
Автор: Марахонова Светлана Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена жизни и научно-педагогической деятельности япониста С. Г. Елисеева во Франции в 1921-1934 гг. после его вынужденного отъезда из Советской России. Автор основывается на документальных материалах, обнаруженных им в архивохранилищах и музеях Парижа. Привлекаются также сведения родственников С. Г. Елисеева. Интерпретация никому не известных документов позволяет по-иному представить первые годы жизни С. Г. Елисеева как эмигранта, показать его реальное положение в научном и музейном мире Франции, сложности его вхождения в новую среду.
С. г. елисеев, русская эмиграция во франции, архивы, японистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14737821
IDR: 14737821 | УДК: 929
Текст научной статьи Парижский период в жизни востоковеда Сергея Елисеева
Русский ученый-японист Сергей Григорьевич Елисеев в сентябре 1920 г. тайно покинул Советскую Россию, опасаясь преследований со стороны властей. Через Финляндию и Швецию Елисеевы перебрались во Францию, где Сергей Григорьевич провел в общей сложности более 30 лет. Вторую половину жизни С. Г. Елисеев был гражданином Франции, которая стала его второй родиной.
Семья Елисеевых сначала поселилась в северо-западном пригороде Парижa – местечке Нейи-сюр-Сен (Neuilly sur Seine) по адресу avenue sur Seine, 61, затем на rue Paul Derouledi, 5. Случайно или нет, но Елисеевы оказались именно в Нейи-сюр-Сен, где в начале ХХ в. находилось французское имение Г. Г. Елисеева, отца Сергея Григорьевича, представителя замечательной купеческой династии. В Нейи-сюр-Сен юный Сергей Елисеев бывал, по-видимому, неоднократно, во всяком случае, во время посещения Всемирной выставки в Париже в 1900 г., на которую он приезжал вместе с отцом. Сейчас на месте елисеевского имения находится Американский госпиталь Парижа.
Вероятно, в начале 1921 г. С. Г. Елисеев с семьей получил так называемый «нансеновский паспорт», который выдавался Лигой наций политическим эмигрантам или апатридам. Но французского гражданства семье пришлось ожидать еще долгих 10 лет. Только в 1931 г. Елисеевы стали гражданами Франции, и именно с того момента изменилось написание фамилии: вместо Serge Elis(s)éèv появился Serge Elisséeff.
Одиннадцатого мая 1921 г. Сергей Григорьевич с семьей переселился в собственно Париж, где за два года они сменили несколько квартир. Наконец, вероятно, в декабре 1922 г. 1 семья Елисеевых навсегда обосновалась на бульваре Перер, 75 в 17-м, тогда довольно непрезентабельном, недорогом районе города 2.
Так сложилось, что именно во Франции С. Г. Елисеев реализовался как ученый более всего. Нигде и никогда у него не было столько публикаций: две научные монографии, множество статей и переводов художественных произведений современных японских авторов. Он участвовал в серьезных научных проектах «Языки мира» [Eliséèv, 1924], «Азиатская мифология» [Eliséèv, 1928]. Круг его научных интересов был обширен. Елисеев занимался историей дальневосточного искусства, изучением японской живописи, театра и музыки, исследовани- ем языка, литературы и истории Японии. Однако продвижения по служебной лестнице в серьезных учебных заведениях у него не получилось: места уже были заняты другими людьми, явно уступавшими ему в своих возможностях.
Париж 1920-х гг. был мировым центром дальневосточных исследований, прежде всего, признанным синологическим центром. В это время в Париже работали П. Пельо и А. Маспе-ро – ученики выдающегося ученого Э. Шаванна, профессор Школы живых восточных языков А. Виссьер (Vissiere). Но с японистикой дела обстояли по-другому. Французская японистика имела к тому времени более длительную традицию, нежели российская, но направленность ее в основном была практической, страноведческой. Дипломаты, достаточно хорошо владевшие японским языком – Ш. Агенауэр, Бонмаршан, тем не менее не имели навыков преподавания, а тем более – научной работы 3. Преподаватели японского (например, профессор Школы живых восточных языков Дотрмер [Dautremer]) не занимались изучением языка с научной точки зрения.
Молодой русский японист Сергей Елисеев, напротив, был подготовленным ученым. За плечами у него было несколько лет преподавания в Петроградском университете, где с помощью коллег-востоковедов он быстро устранил небольшие пробелы в своем токийском образовании. Стремясь к совершенствованию, в Париже Елисеев некоторое время посещал лекции П. Пельо и С. Леви. С точки зрения своей квалификации он имел все возможности, чтобы быстро занять ведущие позиции во французском востоковедении и способствовать формированию научного японоведения. Так со временем и произошло, но адаптация ученого, его вхождение в преподавательскую среду были нелегкими. Профессиональные востоковеды (С. Леви, П. Пельо и др.) радушно встретили своего коллегу и всячески старались ему помочь, но общая обстановка для Елисеева как для эмигранта была неблагоприятна.
Случайная встреча с японским дипломатом Х. Асида (в 1948 г. – премьер-министр Японии), знакомым С. Елисеева по учебе в Японии, помогла ему получить место переводчика в Японском посольстве в Париже. Вероятно, оно и приносило С. Елисееву основной и стабильный доход.
В 1921 г. он начинает работать в музее искусства Дальнего Востока Гимэ. Работа, скорее всего, носящая характер временных поручений руководства музея, состояла в инвентаризации и каталогизации книг на японском и китайском языках. Это подтверждается документально 4:
«25 ноября 1923.
Хранитель музея Гимэ – господину министру народного просвещения и изящных искусств.
…Также прошу Вас разрешить мне использовать господина Сержа Елисеева, бывшего профессора университета в Петрограде, для инвентаризации и каталогизации японских буддистских книг, подаренных музею Гимэ Shun Ohsumi. Для компенсации расходов господина Елисеева будет необходим кредит в 750 франков (7,50 франков за час)».
Вероятно, Сергей Григорьевич также читал в музее какие-то лекции, потому что в журнале «Восток» за 1923 г. встречаем: «…Как лектор он известен Парижу по лекциям в музее Ги-мэ, где он состоит каталогизатором» [Алексеев, 1923. С. 131]. Проработав в музее Гимэ более 10 лет, С. Елисеев так и не добился там высокого положения.
Службу в Школе живых восточных языков (современная аббревиатура INALCO 5) Елисеев начал в 1923 г. с приема экзаменов по японскому языку у студентов. С 1926 г. он читает лекции по японской филологии, но не в основной сетке (там японский язык вели репетитор г-н Наито (Naito) и профессор г-н Дотрмер), а на свободных курсах, видимо, доступных всем желающим. Согласно списку преподавателей различных языков на этих курсах, С. Елисеев читал лекции по японской филологии, наряду с выдающимися российскими учеными-востоковедами В. Минорским (персидская филология) и Н. Марром (грузинский язык). Такие списки относятся к 1926/1927, 1927/1928 и 1928/1929 учебным годам 6. Эти сведения подтверждаются данными нескольких сохранившихся афиш, содержащих программу свободных бесплатных курсов 7.
В 1932 г. высокий профессионал С. Елисеев проиграл выборы на Японской кафедре Ш. Агенауэру, только что вернувшемуся с дипломатической работы в Японии и не имевшему опыта преподавания. Ш. Агенауэр впоследствии стал известным ученым-лингвистом, но для этого ему пришлось пройти школу у того же Елисеева.
Сделать карьеру русскому ученому удалось лишь в Практической школе высших исследований (EPHE) 8, где в 1930 г. он начал читать лекции о религиях Японии также на свободных курсах, замещая уехавшего преподавателя. Однако уже в 1932 г. С. Елисеев добился статуса ординарного профессора. Архивные материалы за 1932 г. утрачены, но вот собственное свидетельство С. Елисеева: «Весною 1932 г. неожиданно умер Alphondery, который читал средневековую философию на религиозном отделении École des Hautes Études. Sylvain Levy внес предложение переменить эту кафедру, сделав из нее кафедру “религий Японии” и затем предложил меня… я оказался выбранным “directeur d’études”, это равняется штатной ординатуре» [Дьяконова, 2000. С. 158].
В 1933-1934 гг. С. Елисеев преподавал историю китайской живописи в Школе Лувра.
В Париже акцент в исследованиях Сергея Григорьевича сместился с литературы (как это было в петроградский период) к дальневосточному искусству. Широта изучавшейся им проблематики была довольно большой: японская художественная культура, изобразительное и прикладное искусство, театр и музыка. Но крупных работ такого рода было написано немного. У Елисеева, более двадцати лет отдавшему преподаванию, вообще немного исследований монографического характера, в основном статьи. Среди работ по искусству, помимо его монографии по истории современной японской живописи – «Современная живопись в Японии» [Eliséèv, 1923], следует выделить обширную статью о дальневосточном портрете [Eliséèv, 1932], статьи о живописи школы Кано (XVI–XVII вв.) [Eliséèv, 1925а], о формировании жанра пейзажа в японской живописи в XV в. [Eliséèv, 1925б]. Его книга о театре Кабуки была прекрасно проиллюстрирована художником А. Яковлевым, широко известным в русских эмигрантских кругах в Париже. Рисунки настолько вошли в плоть книги, что А. Яковлев стал соавтором С. Елисеева [Eliséèv, Iacovleff, 1933].
С. Елисеев также отредактировал книгу Н. Пери по японской музыке «Essai sur les gammes» [Peri, 1934]. Интерес представляет и раздел о японской мифологии, написанный Сергеем Григорьевичем для сборника «Азиатская мифология» [Eliséèv, 1932]. Исследования С. Г. Елисеева в области искусства были обобщены в главах о Китае и Японии в книге по востоковедению многотомной «Всеобщей истории искусств» [Arts musulmans…, 1939].
Как крупный специалист в области японского искусства Серж Елисеев был приглашен к участию в проекте выставки современного японского искусства, прошедшей с 20 апреля по 30 июня 1922 г. в Салоне национального общества изящных искусств в Большом дворце (Grand palais). На выставке были представлены живопись, скульптура, прикладное искусство и предметы старины. Подготовка и работа экспозиции прошли на самом высоком уровне – под патронажем Р. Пуанкаре, президента Совета министров, и министра иностранных дел республики Франции, Л. Берара, министра народного просвещения и изящных искусств республики Франции, а также посла Японии во Франции виконта Исии. С. Елисеев как профессионал преуспел также в составлении каталога выставки [Шарье, 2000. С. 92–93]. Но, к сожалению, посвященная этому событию статья в парижской газете «Gazette des Beaux-Arts» никак не отразила участие С. Елисеева в организации выставки [Doin, 1922].
Зато в научных кругах Советской России об этой деятельности русского ученого-востоковеда стало известно благодаря небольшой заметке В. М. Алексеева. Вот что тот пишет: «Как отличный знаток языка Японии и специалист по ее искусству, С[ергей] Г[ригорьевич] был, вероятно, в высшей степени полезным организатором и каталогизатором выставки, и надо надеяться, что ее каталог, чуть ли не впервые составленный лицом, соединяющим в себе знание языка со знанием и пониманием искусства, составит эпоху в японоло- гии» [Алексеев, 1923. С. 131]. Сам же Сергей Григорьевич в письме Ф. И. Щербатскому от 22 ноября 1922 г. пишет, что «весной и летом был занят по канцелярии японской выставки»9.
К открытию этой выставки была приурочена и упомянутая выше монография «Современная живопись в Японии». Японские устроители выставки, зная Елисеева как тонкого знатока японской цивилизации и художественного критика, поручили ему представить научный обзор истории японской живописи, особенностей ее стилей и разнообразия. Они не ошиблись в своем выборе - ныне этот труд удостаивается высокой оценки специалистов. Искусствовед из Франции И. Шарье обращает внимание на то, что при написании книги Елисеев использовал свой японский опыт и эрудицию и отошел от общепринятой тогда на Западе концепции. Он рассматривал японское искусство в целом, изучая его именно в японском контексте, избегая обращения к европейским критериям. Его интерпретация лежит в том же русле, что и современные исследования японского искусства, безусловно, опирающиеся на более широкую документальную основу. В то время это было наиболее подробное за пределами Японии систематическое описание японской живописи периода XVI-XX вв. Это фундаментальное и уникальное исследование, сохраняющее актуальность до наших дней [Шарье, 2000. С. 99, 103–105].
В Советском Союзе, напротив, сразу же по выходе книги появилась разгромная рецензия на нее. Некто Р. Н. Ким [1923] обвиняет Елисеева в несерьезности и плохом знании методологии истории искусства. Очевидно, автор рецензии выполнил социальный заказ – дискредитировал ученого-востоковеда, покинувшего родину, в глазах советской научной общественности.
Еще не раз Сергей Григорьевич проявил себя как блестящий организатор и научный руководитель художественных выставок и симпозиумов. В 1928 г. С. Г. Елисеев участвовал в работе съезда по народному искусству в Праге, а в ноябре 1931 г. был организатором задуманной Шведско-японским обществом выставки японского искусства в Стокгольме. Хотя ученый и не участвовал сам в организации выставки уникального собрания китайской бронзы в Париже, он стал автором серьезной статьи «Revue des Arts Asiatiques» [Eliséèv, 1933].
Выводы, сделанные С. Елисеевым, позволили облегчить анализ изделий из бронзы. «Я старался показать смешанность мотивов в китайской орнаментике и возможность их классификации, которая вместе с другими данными должна облегчить датировку бронзовых ваз и сосудов. Можно, конечно, написать об этом целую книгу, я постарался только наметить наиважнейшее» [Дьяконова, 2000. С. 174].
Еще одним серьезным проектом, в котором участвовал С. Елисеев, было субсидируемое Японским посольством издание ежемесячного художественного журнала «Япония и Дальний Восток». Издание было предпринято С. Елисеевым совместно с французским востоковедом К. Мэтром (Maître) и просуществовало с декабря 1923 до осени 1924 г., когда К. Мэтр внезапно скончался. С. Г. Елисеев был издателем, редактором и переводчиком, представлявшим каждый месяц на суд читателя перевод современного японского рассказа. Часто это были первые в мире переводы японских авторов.
Известными лингвистами А. Мейе и М. Коэном Серж Елисеев был приглашен участвовать в престижном издании «Языки мира», для которого он написал очерки о японском, корейском, айнском и гиперборейских языках [Eliséèv, 1924]. Участие в качестве автора в таком престижном издании, ставившем своей целью дать энциклопедическое описание максимально большего числа языков мира, в том числе прежде малоизвестных, подтвердило славу С. Елисеева как крупного лингвиста широкого профиля [Решетов, 1995. С. 193].
Недолгое время Серж Елисеев руководил японским студенческим домом, но быстро отказался от этой работы, отнимавшей у него слишком много времени. С 1925 г. он служил офицером связи в Международном институте интеллектуальной кооперации при Лиге наций, принимая участие в международных конгрессах в качестве переводчика японской делегации.
По-видимому, в 1923 г. Сергей Григорьевич имел возможность перебраться в Японию: ему предлагали место лектора русского языка в Токийском университете 10. По неизвестной причине он не принял этого предложения. Хотя известно, что отъезд в Японию долгое время входил в его планы. В письме С. Ф. Ольденбургу от 19 мая 1921 г. Елисеев пишет: «Надеюсь уехать в Японию, так как в Париже почти нет японских книг и справочных пособий» [Хохлов, 2000. С. 240], а в письме Ф. И. Щербатскому от 19 ноября 1922 г. он говорит: «…я все еще собираюсь уехать в Японию» 11.
В начале 1920-х гг. С. Елисеев встречался в Париже со своим университетским товарищем, японистом Орестом Плетнером, который после закрытия в 1922 г. «старого», царского Русского посольства в Токио несколько лет провел в Европе. Известно, что «с осени 1923 г. Ор. Плетнер временно читал в Лондонском институте восточных знаний (School of oriental studies) курс японской филологии» [Алексеев, 1923. С. 132]. Много позднее в письме Н. И. Конраду Ор. В. Плетнер вспоминает, что когда-то давно ночевал у С. Елисеева в квартире на бульваре Перер12.
Виделся он и с приезжавшим в Париж в 1920-е гг. коллегой по Азиатскому музею Ф. А. Розенбергом. Дарственная надпись на одной из книг С. Г. Елисеева подтверждает встречу двух востоковедов: «Дорогому Федору Александровичу Розенбергу на добрую память о нашей встрече в Париже в 192? г.». Однако дата плохо читается – либо 1921, либо 1927 г. Если допустить более позднюю дату, очевидно, Розенберг и привез в Петроград книгу рассказов японских писателей «Сад пионов» [Le jardin des pivoines, 1927] в переводе С. Г. Елисеева на французский язык, хранящуюся сейчас в библиотеке Института восточных рукописей РАН. Если событие относится к 1921 г., книга была подписана С. Елисеевым позже для передачи Ф. А. Розенбергу в Петроград и была получена Азиатским музеем не позднее 1930 г. (что следует из надписи на ней: 1930-№ 442) 13.
Нельзя забывать, что жизнь и деятельность Сергея Григорьевича Елисеева в первый период его пребывания во Франции была обусловлена прежде всего его социально-политическим положением эмигранта, беженца, лица без гражданства. Несмотря на его высочайшую квалификацию как япониста и поддержку ряда коллег, он далеко не всегда мог соперничать с востоковедами французскими гражданами. Хотя C. Елисеев блестяще знал французский язык, еще с детских лет был хорошо знаком с Францией, ему не легко было стать в ней «своим». Долгих десять лет ученому пришлось ждать французского гражданства для себя и членов своей семьи. Что чувствовал он, гордый и благородный, привыкший в любой ситуации быть «первым и лучшим», как пишет его сын Вадим Сергеевич?14 Несмотря на успехи в научных исследованиях и большое число публикаций, сам Сергей Григорьевич не очень хорошо охарактеризовал тот свой парижский период. «Да, я только теперь начинаю чувствовать, как тяжела и неустойчива была моя жизнь и какие неблагоприятные условия были для научной работы» [Дьяконова, 2000. С. 194].
В этой связи приглашение в США в Институт Гарвард-Яньцзинь (Harvard Yenching Institute) весной 1931 г. оказалось как нельзя кстати. Именно в США С. Г. Елисеев реализовал себя как талантливый педагог и стал создателем целого научного направления – дальневосточных исследований. С. Г. Елисеев («Серж Елиссеефф») вошел в мировое японоведение прежде всего как «отец американской японистики». Но это уже другая история.
Список сокращений
АРАН – Архив Академии наук
СПб Ф АРАН – Санкт-Петербургский филиал архива Академии наук
ИВР РАН – Институт восточных рукописей Российской академии наук
Материал поступил в редколлегию 30.09.2011
Svetlana I. Marakhonova
THE PARIS PERIOD IN THE LIFE OF THE RUSSIAN JAPANOLOGIST SERGE ELISSEEFF