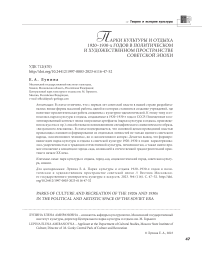Парки культуры и отдыха 1920-1930-х годов в политическом и художественном пространстве советской эпохи
Автор: Лупина Е.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (116), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье отмечено, что с первых лет советской власти в нашей стране разрабатывались новые формы массовой работы, одной из которых становится создание учреждений, где политико просветительская работа соединена с культурно идеологической. К этому типу и относились парки культуры и отдыха, создаваемые в 1920 1930 е годы в СССР. Помещенные в политизированный контекст эпохи визуальные артефакты (парки культуры и отдыха, произведения искусства и пр.) способствовали возникновению специфического символического образа, «визуального лексикона». В статье подчеркивается, что основной целью проводимой властью пропаганды становится формирование из отдельных личностей не только единого советского народа, «коллективного человека», но и «коллективного автора». Делается вывод, что формирование идеи парка культуры и отдыха в советской культуре 1920 1930 х годов характеризовалось укорененностью в традиции отечественной культуры, почвенностью, а также имело прямое отношение к концепции города сада, возникшей в отечественной градостроительной практике в начале ХХ века.
Парк культуры и отдыха, город-сад, социалистический город, советская культура, символ
Короткий адрес: https://sciup.org/144162979
IDR: 144162979 | УДК: 712(470) | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-6116-47-52
Текст научной статьи Парки культуры и отдыха 1920-1930-х годов в политическом и художественном пространстве советской эпохи
PARKS OF CULTURE AND RECREATION OF THE 1920s AND 1930s
IN THE POLITICAL AND ARTISTIC SPACE OF THE SOVIET ERA
ЛУПИНА ЕЛЕНА АМИРАНОВНА – соискатель кафедры культурологии, Московский государственный институт культуры, директор Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького
LUPINA ELENA AMIRANOVNA – Applicant at the Department of Cultural Studies, Moscow State Institute of Culture; Director of M. Gorky Central Park of Culture and Recreation
Elena A. Lupina
Moscow State Institute of Culture,
Khimki, Moscow region, Russian Federation;
M. Gorky Central Park of Culture and Recreation,
Moscow, Russian Federation,
Архитектура начала ХХ века в России (прежде всего, авангардная) предлагала немало градостроительных проектов, имевших утопический характер, и большая часть из них так и не была реализована. Она недаром получила название «бумажная», так и оставшись лишь на бумаге. Все предлагаемые проекты уже в дореволюционный период были направлены на кардинальное переустройство городского пространства, на его преображение. И это полностью совпадало с направленностью уже советской власти на создание идеального города будущего, о чем свидетельствуют многочисленные проекты того времени («Город на рессорах» А. М. Лавинского, «Город на воздушных путях сообщения» Т. Г. Крутикова и др.). Но для реализации идеи по созданию нового мира требовалось разработать иные принципы градостроения и художественный язык. Кроме того, все создаваемое должно было свидетельствовать о преимуществах нового политического строя. Именно в этом новом политическом и художественном контексте и возникают парки культуры и отдыха в 1920–1930-е годы.
В научном дискурсе есть немало подходов к трактовке политического пространства, каждый из которых формировался в разное время, а, следовательно, в границах различных теоретических моделей. Среди них можно выделить два основных. Первый базируется на идее географического детерминизма, декларирующего зависимость организации жизни общества от природных факторов (климатические условия, природные ресурсы и пр.). Именно они, с точки зрения представителей этого подхода (Р. Аронов, Ф. Ратцель, Э. Симпл), воздействуют на форму и особенности организации общественного и государственного устройства.
Второй подход основан на представлении о том, что человек и общество пребывают не только в природно-физическом пространстве, но ориентируются на разновидности идеального пространства, влияющего на модель поведения и взаимодействия различных социальных групп (П. Сорокин, Я. Морено и др.). Такого рода явление характеризуется многомерностью и гетерогенностью, а потому и жизненное пространство, с данной точки зрения, это не отражение природных обстоятельств жизни людей, а выражение их представлений о прошлом и будущем. В таком контексте политическое пространство оказывается пронизано как идеологическим, так и художественным смыслом. Это сложное полисемантическое образование, которое нуждается, в частности, в искусстве для придания ему политико-идеологической легитимности. В связи с этим важную роль в политическом пространстве играет символический компонент, выступающий ресурсом для его конструирования.
Уже в 1920-е годы все сферы жизни советского человека были политизированы. В этот период происходило не только осмысление идеи нового общественного устройства, но наряду с этим шел поиск новых социальных форм. Осмысление нового происходит посредством символов, поскольку они «сливаются в значимые для нас образы, чувственно понимаемые и наделенные знаковым смыслом» [12, с. 52]. Символ, бытование которого возможно в виде образа, слова, знака, выступает своего рода сигналом из той или иной сферы, в том числе и общественнополитической. Более того, символическое может отражать то, чего еще нет, выступает некой потенцией, которая со временем способна перейти в актуальное состояние, и это оказалось очень важно для ситуации в России 1920-х годов.
Социализм возник не вдруг, не сразу после Октябрьской революции 1917 года, поэтому перед советской властью стояла задача не только сконструировать новое социальное бытие, но и убедить советских граждан в том, что оно уже существует как образ жизни и политическая реальность. Искусству в этом процессе отводилась одна из ведущих ролей, поскольку оно тоже наделено способностью конструировать, а не просто изображать образы в определенной взаимосвязи. В связи с этим Парк культуры и отдыха – как синтез природного и культурного, как воплощение новой визуальности – стал своеобразным символом новой власти.
Уже в первые годы советской власти прибегали к разным формам вовлечения советского человека в рождающуюся политическую реальность новой России (плакатное искусство, экскурсионная деятельность, киносеансы и пр.). При создании нового социокультурного пространства большевики опирались на разнообразные способы «репрезентации наиболее значимых для формируемого советского общества представлений и образов» [10, с. 269]. В данном случае можно говорить о стремлении в этот период к расширению визуальности в культуре.
Одна из главных целей большевиков в первое десятилетие после прихода к власти – создание «нового человека», которому присущи новые идеи, новое восприятие мира, новые воспоминания. Достигалось это в том числе путем замены прежних памятных событий новыми представлениями. Рождению нового советского человека способствовали и те вербальные и визуальные средства, которыми пользовалось искусство с момента его возникновения. При подавляющей неграмотности населения именно эти средства стали главным инструментом возможностей презентации государственной власти, как это было в Древнем Египте, в Месопотамии, повсеместно в Средние века. Задача искусства в 1920–1930-е годы состояла не в приукрашивании действительности, а в замене прежней социальной реальности новой. А это означает, что «замене подлежит здесь и сейчас протекающее настоящее. Речь идет об особого рода модальности: это не замена настоящего будущим, но попытка представить будущее настоящим» [2, с. 28].
В связи с этим проводимая советской властью культурная политика была нацелена на формирование нового типа визуальности. Помещенные в политизированный контекст эпохи визуальные артефакты (парки культуры и отдыха, произведения искусства и пр.) способствовали возникновению специфического символического образа, «визуального лексикона». Воспитательная и просветительская деятельность новой власти должна была охватить как можно большее число граждан советской России. Это связано с тем, что «горизонт житейского опыта среднего гражданина редко выходил за пределы деревни или уездного центра, простираясь самое большое до ближайшего крупного города, или же завода, на котором работали члены его семьи» [8, с. 240]. В связи с этим в советской культуре стали постепенно отказываться от сложного художественного языка авангарда, который для подавляющей массы населения был непонятен, заменяя его традиционными для русской культуры образцами. Это иконописные образы и лубочные картинки, отсылки к которым можно обнаружить в советском плакате, это традиция праздничных гуляний, продолжение которых видно в массовых демонстрациях и митингах.
В таких условиях особую значимость приобретает фокус зрения, а инструментом для упорядочивания объектов рассмотрения выступает советская зрелищность в целом. «Установка на "факт" вытесняется» в этот момент «мультимедийной инсценировкой идеологических эмблем и мифологических образов» [11, с. 10]. Именно в указанной ситуации парки культуры и отдыха, массовые демонстрации и празднества приобретают статус своего рода образца, канона, на который следовало ориентироваться их массовому участнику. Более того, декларируемые ими ценности должны были перейти из общественно-публичной сферы в частную жизнь каждого советского человека, выступая своего рода маркером для определения его «советскости».
Работа в этом отношении велась социалистическим государством в разных направлениях с опорой на «верования, мифы и метафоры», которые «выступали инструментами для облегчения проникновения идей в массовое сознание». Отметим позицию К. Гирца, который, в частности, указывал на «образную природу идеологического мышления, наполненного различными метафорами и тропами» [10, с. 269]. С другой стороны, по мнению М. Маклюэна, в этот период молодому советскому обществу было достаточно «адаптировать свои традиционные восточные иконы и построение образа к новым электрическим средствам коммуникации, чтобы быть агрессивно эффективными в современном мире информации» [6, с. 394].
Основной целью советской пропаганды было формирование из отдельных личностей единого советского народа. Но это был не только «коллективный человек», но и «коллективный автор». На протяжении первых трех десятилетий в послеоктябрьский период активно используется так называемый «бригадный метод». Подобный способ работы можно обнаружить в искусстве других стран, но особенность советского варианта заключается в том, что он получает идеологическое обоснование как новая форма социалистического творчества. Многие крупномасштабные проекты в советской художественной культуре были выполнены при использовании «бригадного метода». Многие из мастеров 1920–1930-х годов считали его одной из моделей искусства будущего. Но можно говорить и о «почвенности» этих представлений, поскольку в Древней Руси превалировала артельная форма в архитектуре и изобразительном искусстве.
Материалы заседания Исполкома Моссовета весной 1927 года свидетельствуют о том, что в то время был поднят вопрос о необходимости открытия «Большого рабочего центра». Среди причин его создания значилась необходимость замены им традиционных религиозных форм. Именно в контексте христианства формируется представление о саде как модели мира, его иконе, рае. Сад начинают сопоставлять с Эдемом, с «райскими кущами». «По сути, рукотворный рай – это усовершенствованная и абсолютно безопасная среда, в которой человек может чувствовать себя комфортно и умиротворенно, удовлетворяя свое извечное желание быть ближе к матери-природе» [4, с. 53].
Таким образом, идея «райского сада» как пространства, где городской житель имел возможность вернуться в природное окружение, а многие горожане приобрели этот статус совсем недавно, а до этого проживали в деревне, базировалась на социальном запросе. С другой стороны, она соединилась в 1920-е годы с идеей преображения окружающего мира, лежавшей в основе многих утопических проектов в России начала ХХ века. «Осуществляемые в данной ситуации преобразования должны были приобрести статус радикальных и затронуть не только социум, где следовало установить порядок, но и распространиться на природную реальность» [10, с. 266].
Отметим, что в Советской России приоритет получили научные направления, способные активно вторгаться в мир природы. Эта тенденция нашла отражение в трансформации подходов к градостроительству. Буквально за два десятилетия с отечественной архитектурно-градостроительной мыслью произошли кардинальные изменения. В начале ХХ века доминирующей была концепция города-сада, которая в 1917–1920 годы получила дальнейшее развитие. Однако уже к 1925–1926 году она оказывается под запретом, а на смену ей приходит идея советского рабочего поселка, которую к концу 1920-х годов заменила идея социалистического города.
С 1920-х годов в основу развития парков культуры и отдыха легла идея массового озеленения. Доступная для общественности единая зеленая зона начала складываться с центра Москвы в 1922 году. Эта же тенденция прослеживается и в Генеральном плане реконструкции Москвы, который был утвержден в 1935 году. В своем выступлении на заседании пленума Моссовета в 1934 году Л. М. Каганович отмечал, что Сталин под массовым озеленением имеет в виду не отдельные газоны, а большие «парковые массивы, которые мы всемерно должны развивать в Москве и ее ближайших окрестностях» [3, с. 5].
Посредством подобных пространств политическая элита могла осуществлять пропа- ганду социалистических идей и воспитывать граждан в соответствии с ними. Безусловно, Москва, пережившая в 1920-е годы процесс ускоренной индустриализации и урбанизации (их начало относится к рубежу ХIХ– ХХ веков) стала образцом и ориентиром для других советских городов. Реализовываемые здесь проекты задавали стандарты, которые в дальнейшем были распространены на остальную территорию СССР.
Итак, новое политическое пространство советской эпохи предполагало особую взаимосвязь его идеологической и художественной составляющих. Новое социальное бытие не возникло вдруг и сразу после Октябрьской революции 1917 года. Это был процесс созидания ранее неизвестных форм политической жизни, к символическому аспекту которых имело отношение социалистическое искусство. На протяжении 20–30 годов ХХ века разрабатывались формы массовой работы, одной из которых становится создание учреждений, где политико-просветительская работа соединена с культурно-идеологической. К этому типу и относились новые типы парков культуры и отдыха 20–30 годов ХХ века, насыщенные символами народной власти и будущего коммунистического бытия. С другой стороны, идея их создания укоренена в сложившихся еще в предшествующий период традициях. Так, еще в Древней Руси сформировались представления о «райском саде» и традиции праздничных гуляний, в которые были вовлечены фактически все жители города или деревни. Этот вид развлечений следует определить как синкретический, поскольку не представляется возможным выделить отдельные его элементы. Таким образом, формирование идеи парка культуры и отдыха в советской культуре 1920–1930-х годов отличается укорененностью в традициях отечественной культуры, «почвенностью», а также имеет прямое отношение к концепции города-сада, возникшей в отечественной градостроительной практике в начале ХХ века.
Список литературы Парки культуры и отдыха 1920-1930-х годов в политическом и художественном пространстве советской эпохи
- Бакулов В. Д. Социокультурные метаморфозы утопизма. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского. университета, 2003. 352 с.
- Добренко Е. Политэкономия соцреализма. Москва: Новое литературное обозрение, 2007. 592 с.
- Долганов И. Зеленые насаждения советского города // Проблемы садово-парковой архитектуры. Москва: Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 1936. С. 1-24.
- Лавренова О. А. Садово-парковое искусство и метаязык города // География искусства: новые ракурсы. Сборник статей. Москва: ГИТР, 2020. С. 52-59.
- Лосев А. Ф. Самое само: Сочинения. Москва: ЭКСМО-Пресс, 1999. 1024 с.
- Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. Москва-Жуковский: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле. 2003. 464 с.
- Мамардашвили М. Лекции по античной философии. Москва: Аграф, 1997. 320 с.
- Плаггенборг Шт. Революция и культура: Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. Санкт-Петербург: Журнал «Нева», 2000. 416 с.
- Подорога В. А. Пространство и власть. Геополитика русского авангарда. А. Платонов и В. Шаламов. Москва: Культурная революция, 2022. 296 с.
- Синявина Н. В. Концепт «устремленность в будущее» как элемент концептосферы русской культуры: монография. Москва: МГИК, 2022. 365 с.
- Советская власть и медиа: Сборник статей под общей ред. Х. Гюнтера и С. Хэнсген. Санкт-Петербург: Академический проект, 2006. 614 с.
- Ставицкий А. В. Современный миф: его природа и предназначение. Севастополь: Рибэст, 2013. 156 с.
- Угрехелидзе Е. А. Культура городского парка в 1920-1950-е годы (на примере Нескучного сада) // Вестник РГГУ Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2016. № 3. С. 89-95.