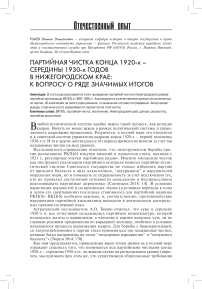Партийная чистка конца 1920-х - середины 1930-х годов в Нижегородском крае: к вопросу о ряде значимых итогов
Автор: Рзаев Эльман Эльманович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 6, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются итоги проведения партийной чистки в Нижегородской краевой партийной организации ВКП(б) в 1929-1930 гг. Анализируются количественные данные об исключенных из партии, об апелляциях на такого рода решения, о социальном составе пострадавших. Автор делает выводы о причинах роста управляемости партии после этой чистки.
Вкп(б), партийная чистка, исключение, нижегородский край, данные, результаты, партийная дисциплина
Короткий адрес: https://sciup.org/170191583
IDR: 170191583 | DOI: 10.31171/vlast.v29i6.8718
Текст научной статьи Партийная чистка конца 1920-х - середины 1930-х годов в Нижегородском крае: к вопросу о ряде значимых итогов
В любой политической системе крайне важен такой процесс, как ротация кадров. Ничуть не менее важна в рамках политической системы и управляемость кадровыми процессами. Разумеется, в полной мере это относится и к советской системе управления кадрами конца 1920-х – первой половины 1930-х гг. И то и другое достигалось в тот период времени во многом за счет так называемых чисток на всех уровнях.
Исследователи справедливо отмечали, что «инструментом борьбы против разлагавших РКП(б) изнутри явлений и процессов стали, начиная с 1921 г., регулярные чистки партийных рядов». Именно «механизм чисток как инструмент реализации партийного контроля помогал партийно-политической системе Советского государства не только избавлять партию от вредного балласта в виде алкоголиков, “шкурников” и нарушителей моральных норм, но и повышать ее управляемость за счет исключения тех, кто не проявлял достаточной готовности немедленно и беспрекословно реализовывать партийные директивы» [Санников 2018: 14]. В условиях нарастания трудностей и на кризисных этапах (в условиях перехода к нэпу и затем его свертывания) последнее становилось для партийной машины РКП(б)–ВКП(б) особенно важным, и, соответственно, противодействие нарушениям партийной дисциплины выходило в деятельности контрольных органов на первый план.
Астраханский исследователь А.О. Тюрин отмечал, что «уже в середине 1920-х гг. все отчетливей складывалась партийная номенклатура, которой полагались льготы и привилегии, а членство в партии являлось чуть ли не главным условием продвижения по карьерной лестнице, особенно в условиях начавшегося процесса выдвижения кадров. Для борьбы с бюрократизаций, со злоупотреблениями в партии стали применяться так называемые чистки, которые были направлены на отсев “нездоровых карьеристов” и “ненужного балласта”» [Тюрин 2014: 170].
Как нам представляется, приведенные выше точки зрения не в полной мере отражают сущность того, что понимается под партийными чистками конца 1920-х – середины 1930-х гг., во всяком случае на региональном уровне (впрочем, мы признаем при этом же, что существовали общесоюзные требования по проведению чисток1). Формально кампании по чистке «имели одинаковую цель: удаление из партии и с государственных должностей идеологически “чуждых” власти коммунистов и работников» [Абракова 2003: 240]. В реалиях конца 1920-х годов под таковыми прежде всего понимались «все другие группы внутри партии, способные к самостоятельному мышлению, к активной работе», которые «неизбежно становились оппозициями, противостоящими “генеральной линии”. Единство достигалось путем отсечения от партии всех несогласных» [Камалова 2009: 109].
В Нижегородском крае чистка, которой руководила Нижегородская краевая контрольная комиссия – Рабоче-крестьянская инспекция (НижкрайКК-РКИ), позволяет сделать и иные, не столь однозначные выводы. Итак, по итогам чистки, проведенной в период 1929–1930 гг., был исключен из краевой организации 6 251 коммунист, что составляло 8,1% членов ВКП(б) и кандидатов в члены ВКП(б) в крае, причем мужчин – 9,5%, а женщин – 4,5%2.
Следующий важный момент, который нам следует отметить: в период проведения этой партийной чистки рабочих исключили только 5,9%, крестьян – 12,1%, а служащих – 9,6%. На основании принятого решения о чистке апелляцию подали 439 рабочих (28,5%), 327 крестьян (21,3%) и 772 служащих (50,2%)3. Тут все тоже вполне логично – рабочим доверяли больше, чем «мелкобуржуазной массе» крестьян и «образованным» служащим, а вот умения писать ходатайства, жалобы и иные подобные документы было больше как раз у последних. Другое дело, что перевес в пользу рабочих в плане возможности сохранить свое членство в партии также не был абсолютным. Так что партия, во всяком случае в регионе, не становилась по итогам чистки по-настоящему пролетарской в плане своего социального состава.
Небезынтересны и данные о партийном стаже вычищенных: со стажем до 1916 г. – 1,2%; 1917–1921 – 7,7%; 1922–1923 – 12,1%; 1924–1925 – 7,4%; 1926–1927 – 2%; 1928 – 5,5% и 1929 – 2,9%4. Бросается в глаза также большое число «вычищенных коммунистов» из числа вступивших в начале проведения нэпа. Впрочем, тут тоже есть простор для трактовок: «вычищенные» могли быть как жертвами отголосков борьбы в верхах (поддерживали оппонентов И.В. Сталина, сделав неверную ставку), так и даже сторонниками других партий (а то и их членами, пусть и всего лишь рядовыми). Впрочем, иные варианты, связанные не с политической позицией, а с совсем иными вопросами, также могли иметь место.
Далее уместно обратить внимание и на причины исключения, во всяком случае, упомянутые в официальных документах. Итак, 13,7% «вычищенных» жителей Нижегородского края лишились своего партбилета по причине причисления к числу классово-идеологически чуждых элементов. Доподлинно известно о более 10 случаях «вычищенных» за родственные связи с «чуждыми элементами», причем без доказательства сохранения контактов [Абракова 2005: 98]. То обстоятельство, что революцию делали и поддерживали отнюдь не только представители пролетариата, не учитывалось. Впрочем, в данном случае скорее имеет смысл вести речь о критерии, который можно было трактовать различным образом в зависимости от обстоятельств. Это весьма неудобно для объекта уп равления, но может быть удобным для лиц, принимающих решения.
Имелись и иные примеры двойственности трактовок «вычищения». Так, упоминались «бюрократизм, бесхозяйственность и нарушение трудовой дисциплины» (за это пострадали 5,8% исключенных), а также «пьянство», причем вместе с «религиозными обрядами». Нам не очень понятно, каким именно образом разграничивались «нарушение трудовой дисциплины» и «пьянство», кроме фактов нарушения трудовой дисциплины по причине излишней любви члена ВКП(б) к алкоголю (алкоголизм рассматривался как антипартийное поведение, поскольку руководитель-алкоголик бросал тень и на партию). Опять же могло иметь место противоречие между установкой, гласившей, что «недопустимо мелочное копание в быту коммуниста», и положением, согласно которому «бытовые черты коммуниста, имеющие антиобщественный, антипартийный характер, как систематическое пьянство, а также антисемитизм, религиозность и т.п., несовместимы со званием коммуниста»1, которое могло быть решено в пользу второго. Впрочем, возможность для произвольного толкования такого положения дел сохранялась.
Кроме того, интересна также такая формулировка, как «пассивное пребывание в партии», за которую пострадали 18,7% исключенных. Тут у членов комиссии опять же имелся простор для трактовки2. Кроме того, сама формулировка такого рода явно свидетельствовала, что ВКП(б) не является партией, как ее воспринимали и воспринимают на Западе, но чем-то иным: в нашем случае – частью государственного аппарата.
Таким образом, мы вынуждены признать, что в Нижегородском крае в ходе партийной чистки конца 1920-х гг. допускались произвольные трактовки «прегрешений» партийцев, равно как и имело место банальное сведение счетов [Абракова 2005: 96-97]. Не случайно, что ряд апелляций на решение об исключении из ВКП(б) удовлетворялись, причем почти 60% отмененных решений приходится на местные контрольные комиссии. Отметим также, что на основе обращения к материалам чистки 1929–1930 гг. в Нижегородском крае становится очевидным, что ВКП(б) берет на себя совершенно несвойственные партиям функции и активно вторгается в частную жизнь людей.
Сохранились указанные нами особенности чистки партийных рядов в Нижегородском крае и в 1934–1936 гг. В эти годы также немалый процент «вычищенных» пострадали за пассивность пребывания в рядах ВКП(б), за моральное разложение, за опыт участия в деятельности других партий и сокрытие своего социального происхождения3. Укажем, что в течение этих трех лет активно велась борьба против состоявших в партии бывших сторонников Л.Д. Троцкого и Г.Е. Зиновьева4 (для сравнения: несмотря на поражение означенных деятелей советского государства во внутрипартийной борьбе в конце 1920-х гг. в материалах чисток о них не упоминалось).
Кроме того, в 1934–1936 гг. чаще в официальных документах шла речь о формализованном, недостаточно активном участии партийных организаций в чистке5, нежели это было в 1929–1930 гг.
Таким образом, следует признать, что в результате партийных чисток к 1936 г. в Нижегородской краевой организации ВКП(б) из партии были исключены лица, не вызывавшие доверия у руководства в силу своих деловых и личностных качеств, а также политически неблагонадежные партийцы, причем вне зависимости от того, насколько они отказались от своих прежних убеждений (неважно, эсеровских или троцкистских). То есть, уровень монолитности – как социальной, так и идейной – партийных рядов в краевой организации вырос.
Список литературы Партийная чистка конца 1920-х - середины 1930-х годов в Нижегородском крае: к вопросу о ряде значимых итогов
- Абракова Т.А. 2003. Новые источники для изучения чистки партии и госаппарата в 1929-1930 гг. - Отечественная история ХIХ-ХХ веков: историография, новые источники: материалы региональной межвузовской научно-практической конференции. Нижний Новгород: Изд-во НГАСУ. С. 239-243.
- Абракова Т.А. 2005. Советское общество 20-30-х годов ХХ века: опыт политического контроля (на материалах партийной Контрольной Комиссии). Н. Новгород: Изд-во НГАСУ. 143 с.
- Камалова Г.Т. 2009. Идеологические основы становления советской модели правоохранительной системы (1921-1929 гг.) - Вестник Томского государственного университета. № 320. С. 109-112.
- Санников В.А. 2018. Партийный контроль и чистки РКП(б)-ВКП(б) в Москве в 1920-е - первой половине 1930-х гг. - Актуальные проблемы истории, политики и права: сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции. Пенза: Изд-во ПГУ. С. 13-17.
- Тюрин А.О. 2014. Социально-политический контроль в партийных организациях ВКП(б) советской провинции в конце 1920-х - 1930-е гг. - Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 11-1(49). С. 170-174.