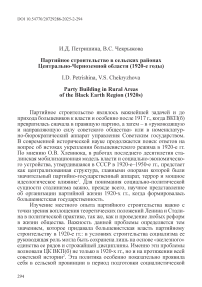Партийное строительство в сельских районах Центрально-Черноземной области (1920-е годы)
Автор: Петришина И.Д., Чекрыжова В.С.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Политическая история и историческая политология
Статья в выпуске: 2 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
Процесс партийного строительства 1920-х гг. раскрывает закономерности и ход становления сталинской диктатуры. Целью статьи является изучение особенностей партийного строительства 1920-х гг. в типичном аграрном регионе России – ЦентральноЧерноземной области. Это позволяет выявить внутренние механизмы советского политического режима, показать не только реализацию теоретических воззрений коммунистических вождей в строительстве советской государственности и в жизни советского общества, но и расширить представления о сталинизме и партийногосударственном аппарате той поры. На основе анализа печатных партийных изданий и неопубликованных архивных источников в статье представлены состояние сельских партийных организаций, формы партийного руководства, кадровая политика в партии, «болезненные» явления в партии. Рост числа коммунистов в Центрально-Черноземной области за счет бедных крестьян и колхозников ослабил работу партийных организаций. В соответствии с политикой центральных органов партии большевиков областные партийные комитеты решали задачи укрепления единства партии и партийной дисциплины посредством отбора и переброски кадров из одного комитета в другой, инструктирования работников партийных комитетов низового уровня, повышения секретности документов, в которых отражалось руководство рядовыми коммунистами. Особенности партийной работы в сельской провинции определялись аграрной спецификой региона и низким образовательным и политическим уровнем коммунистов из крестьян.
Коммунистическая партия Советского Союза, большевики, партийная организация, сельские коммунисты, крестьянство, партийная бюрократия, чистка партии, хлебозаготовки, коллективизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149148364
IDR: 149148364 | DOI: 10.54770/20729286-2025-2-294
Текст научной статьи Партийное строительство в сельских районах Центрально-Черноземной области (1920-е годы)
I.D. Petrishina, V.S. Chekrуzhova
Party Building in Rural Areas of the Black Earth Region (1920s)
Партийное строительство являлось важнейшей задачей и до прихода большевиков к власти и особенно после 1917 г., когда ВКП(б) превратилась сначала в правящую партию, а затем – в «руководящую и направляющую силу советского общества» или в номенклатурно-бюрократический аппарат управления Советским государством. В современной исторической науке продолжается поиск ответов на вопрос об истоках укрепления большевистского режима в 1920-е гг. По мнению О.В. Хлевнюка, в работах последнего десятилетия сталинская мобилизационная модель власти и социально-экономического устройства, утвердившаяся в СССР в 1920-е–1950-е гг., предстает как централизованная структура, главными опорами которой были значительный партийно-государственный аппарат, террор и мощное идеологическое влияние1. Для понимания социально-политической сущности сталинизма важно, прежде всего, научное представление об организации партийной жизни 1920-х гг., когда формировалась большевистская государственность.
Изучение местного опыта партийного строительства важно с точки зрения воплощения теоретических положений Ленина и Сталина в политической практике, так же, как и проведение любых реформ в жизни общества. Важность данной проблемы определяется тем значением, которое придавала большевистская власть партийному строительству в 1920-е гг.: в условиях строительства социализма ее руководящая роль могла быть сохранена лишь на основе «железного» единства ее рядов и строжайшей дисциплины. Именно эти проблемы волновали ЦК ВКП(б) не только в 1920-х гг., но и на протяжении всей советской истории2. Эта политика особенно показательно проявила себя в сельской провинции в период подготовки социалистической модернизации сельского хозяйства – насильственной коллективизации крестьян.
Изучение особенностей партийного строительства в 1920-х гг. на местном материале актуально также с точки зрения анализа политических практик, которые способствовали изменению советской политической системы от центра к периферии.
В советской исторической литературе партийное строительство 1920-х гг. в сельской провинции, включая и ЦентральноЧерноземную область (ЦЧО), рассматривалось в строгих идеологических рамках, через призму повышения «руководящей роли партии» в общественно-политическом развитии крестьянства, укрепления сельских партийных организаций, улучшения социального состава партийных рядов, деятельности партии по дальнейшему укреплению и демократизации сельских советов, партийного руководства сельским активом и молодежью.
В современных трудах принципиальные вопросы политической системы 1920-х гг. от партийной политики и борьбы за власть до номенклатурных привилегий и партийных чисток, практики сталинского управления государством рассматривают как российские3, так и зарубежные4 историки. Особое внимание ими уделяется, в том числе, и действиям партийно-государственного аппарата на местном уровне5. Результаты их исследований позволяют прийти к выводу о том, что партия большевиков была полностью преобразована в первое десятилетие после революции6. Так, в специальных исследованиях по истории тамбовских коммунистов начала 1920-х гг. показана дезорганизация большевистской власти в связи с крестьянским повстанческим движением А.С. Антонова, усилия властей по решению кадровой проблемы низового аппарата с помощью перебросок и мобилизаций работников, выдвижения и назначенства, а также проблемы чистоты рядов правящей партии в условиях крайне низкой доли коммунистов и их непопулярности среди сельского населения7.
Целью статьи является изучение особенностей партийного строительства в аграрном регионе России 1920-х гг., что позволяет выявить внутренние механизмы работы советского политического режима. Анализ архивных документов и печатных партийных изданий позволил дать характеристику типичных сельских партийных организаций, показать формы партийного руководства и кадровую политику, раскрыть «болезненные» явления в жизни партии.
***
Накануне Октябрьской революции 1917 г. большевики были фактически партией рабочих и интеллигенции. В 1917 г. члены пар- тии крестьянского происхождения составляли 7,8 %. В 1916 г. партия большевиков имела по всей России всего четыре сельских от-деления8. В подпольные годы своего существования партия не вела статистического учета. Массовый рост партии коммунистов начался после октября 1917 г., особенно в 1919–1920 гг. во время проведения «партийных недель». К 1921 г. число членов партии большевиков из крестьянского сословия достигло уже 28,2 %. Но число членов партии и партийных организаций на селе продолжало оставаться очень низким9.
В Центрально-Черноземной области не было точного систематического учета большевиков с момента организации партии до 1920 г. В годы Гражданской войны учет также не проводился из-за боевых действий. Первые данные о численности партии появились по материалам перерегистрации членов ВКП(б) в 1920 г. В начале 1922 г. первая партийная перепись положила начало систематическому учету большевиков10. Численность коммунистов в ЦЧО, представленная в таблице 1, показывает, во-первых, незначительное их количество в регионе в 1917 г.; во-вторых, бурный рост членов партии в 1917–1921 гг. в связи с приходом ВКП(б) к власти; в-третьих, снижение числа коммунистов к 1922 г. по причине генеральной чистки 1921 г.; в-четвертых, возобновление роста числа коммунистов в 1924 г. в связи с ленинским призывом в партию после смерти В.И. Ленина. В 1929 г. их число возрастает почти в 2 раза по сравнению с 1924 г.
Таблица 1. Рост численности коммунистов в ЦЧО в 1920-е гг.11
|
Годы |
Источники партийной статистики |
Членов ВКП(б) |
Кандидатов в члены ВКП(б) |
Всего |
|
1917 |
По материалам областного отдела Истпарта |
1000 |
- |
- |
|
1920 |
По материалам перерегистрации |
18854 |
- |
- |
|
1921 |
По данным мандатной комиссии X съезда ВКП(б) |
22439 |
- |
- |
|
1922 |
Первая партийная перепись |
16831 |
4578 |
21409 |
|
1924 (1 января) |
Текущая статотчетность парткомов |
13042 |
4440 |
17482 |
|
1924 (1 июля) |
Текущая статотчетность парткомов |
13264 |
9070 |
22334 |
|
1927 (10 января) |
Вторая партийная перепись |
20592 |
12176 |
32768 |
|
1928 (1 января) |
Текущая статотчетность парткомов |
24836 |
13536 |
38372 |
|
1929 (1 января) |
Текущая статотчетность парткомов |
29838 |
14654 |
44492 |
Формирование уездных организаций и их руководящих органов проходило в тяжелых условиях Гражданской войны: в 1918–1919 гг. была распущена Данковская партийная организация, а руководители Раненбургского уездного комитета (укома), допустившие злоупотребления, были отданы под суд трибунала. Вновь избранный Ранен-бургский уком снова был распущен в результате генеральной чистки партии 1921 г.12 Вот как выглядела по Всероссийской партийной переписи 1922 г. типичная уездная парторганизация – Липецкая: ячеек было 52, в том числе 20 – городских и 32 – сельских, всего 379 членов, из них 183 – сельских коммунистов13. По данным переписи населения 1926 г., в четырех губерниях ЦЧО – Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской – проживало 10 826566 человек, из них сельского населения – 9 801635 человек или 90,5 %14. Наибольший процент аграрного населения приходился на Тамбовскую губернию. Так, в 1920 г. в Тамбовской губернии население составляло 3 649 564 человек, среди них – 3 382 341 сельских жителей или 92,7 %15.
В конце 1925 г. в Тамбовской губернии насчитывалось 328 ячеек. Из них 200 – деревенских. Число партийцев в волостных ячейках составляло от 10 до 52 человек, которые проживали на значительном расстоянии друг от друга, что осложняло их работу. Для сельских ячеек обычным явлением была частая смена секретарей, в большинстве случаев их работа не оплачивалась. Коммунисты оплачиваемых должностей получали высокие оклады. Так, секретари укомов в 1927 г. получали оклад в 118 руб. 80 коп. в месяц, заведующие отделами – по 110 руб., инструкторы – 82 руб. 50 коп., ответственные секретари волостных комитетов получали жалованье от 35 до 72 руб. В 1928 г. зарплата секретарям укомов и заведующим отделами была значительно увеличена16.
ЦК ВКП(б) поставил перед партией задачу воспитания партийцев после ленинского призыва и массового приема в партию в 1925 г. для выполнения партией роли «политического вождя масс»17. Вторая массовая кампания приема рабочих в партию была приурочена к празднованию десятилетия Советской власти в 1927 г.18 К канди- датурам будущих членов партии предъявлялись жесткие условия, главное – преданность делу партии. Для сельских коммунистов был необходим отбор, прежде всего, среди бедняков и активистов колхозного движения19, что было трудно выполнить. Тем не менее, рост сельских коммунистов происходил за счет вербовки батраков, сельскохозяйственных рабочих, бедняков-активистов, работников-практиков сельских Советов и кооперации. Основной тщательный отбор кандидатов проводили ячейки, волостные и уездные комитеты. Губернский комитет не мог по существу рассматривать заявления о приеме в партию20.
Центральное место в партийном руководстве губернских коммунистов занимал губком ВКП(б). Однако к 1924 г. губернские комитеты партии еще не были укомплектованы на 100 %.В практике губернских организаций ВКП(б) Центрального Черноземья преобладали такие формы руководства, как выезды на места, вызовы с мест для докладов и на различные совещания, письменные указания по отдельным вопросам, а также инструктирования. Текущая работа состояла из докладов, инструктирований, письменных директив по проведению каких-либо кампаний, циркулярных указаний организационного и пропагандистского характера, выездов на места для разбора и устранения недостатков, выяснения конфликтов и недоразумений21. Для руководства работой в деревне были созданы специальные деревенские комиссии при губкоме и укомах. Целый ряд уездных и волостных организаций не могли «подобрать» секретарей из местных работников.
Губернское партийное руководство стремилось свести до минимума письменные и циркулярные указания, заменив их «живым руководством» – выездами на места. С этой целью значительное внимание уделялось укреплению инструкторского аппарата и повышению его авторитета. К 1925 г. инструкторский аппарат Тамбовского губкома ВКП(б) был укомплектован, что позволило обследовать полностью Козловский, Кирсановский, Липецкий уезды, частично Тамбовский, Моршанский, Борисоглебский и Рассказовский районы. Кроме инструкторских выездов практиковались командировки работников в деревню сроком до двух месяцев. Командировки наиболее ответственных работников губернского комитета партии были приурочены к перевыборам Советов. Уездные комитеты (укомы) действовали по тому же принципу. Так, из Козловского уезда в деревню было направлено 50 коммунистов. Как правило, с мест вызывали работников непосредственно с докладом на бюро губернского или уездного комитета, на расширенные совещания или пленумы22.
При уездных комитетах партии проводились совещания секретарей ячеек, инструктирования на местах, их практическое «ната- скивание» ответственными командированными работниками и инструкторами райкомов, выезды на места членов укомов, инструкторов, посещение волисполкомов во время проведения ударных кампаний и праздников23. Посылка уполномоченных на места приводила к усилению администрирования.
Губернские комитеты партии, с одной стороны, обеспечивали выполнение партийных директив в деревне посредством координации деятельности местных советских и хозяйственных органов, а с другой, – учитывали интересы крестьянства в таких направлениях государственной политики 1920-х гг., как землеустройство индивидуальных крестьянских хозяйств, налогообложение, колхозное строительство, развитие совхозов, организация сельскохозяйственного кредита, борьба с безработицей, поддержка бедняцких хозяйств, ликвидация неграмотности. Уездные комитеты ВКП(б) решали повседневные крестьянские проблемы, связанные со снабжением сельскохозяйственными машинами, оказанием помощи во время посевных кампаний (запашка земли и очистка семян), организацией детских яслей24.
Из материалов текущих дел укомов не вполне подтверждается вывод Т. Шанина о том, что среди сельских аутсайдеров по отношению к крестьянским общинам особо выделялись партийцы (члены Коммунистической партии), и сельские партийные организации были очень далеки от насущных проблем крестьянства25. Тем более некорректно высказывание М. Левина о том, что «партийный аппарат» «загрязнял партию»26. Напротив, большевистское руководство рассматривало решение насущных, повседневных, жизненно важных крестьянских проблем средством укрепления власти большевиков в деревне, а, следовательно, в огромной крестьянской стране.
В 1924 г. антисоветское восстание в Грузии, которое имело широкий общественный резонанс и показало консолидированное оформление крестьянских требований в связи с его тяжелым положением, привело к «пониманию партийным руководством неустойчивости своих позиций в деревне»27. На совещании секретарей деревенских ячеек при ЦК РКП(б) «Об очередных задачах партии в деревне» 22 октября 1924 г. Сталин призвал изучать нужды и пожелания миллионов беспартийных крестьян, считаться с их запросами и настроениями, создать вокруг партии многочисленный беспартийный актив из крестьян, оживить Советы за счет «массовой работы вокруг практических нужд деревни, в ходе широкого советского строительства в деревне, путем вовлечения крестьянства в дело управления волостью, районом, уездом, губернией»28.
С 1925 г. в обследования волостных партийных комитетов стали включать не только непосредственную работу сельских комму- нистов, но и экономическое и политическое положение волости как результат его партийного руководства. Кроме того, в схему отчета волостных комитетов включили вопросы по выявлению партийного актива, проведению индивидуальной связи с населением, выявлению крестьянского актива и включению его в общественную деревенскую работу. Комиссии укомов и инструкторы проводили комплексные обследования волостных организаций и сельских ячеек в связи с новым курсом «Лицом к деревне». Как показала проверка работы волостных парторганизаций Липецкого уезда Тамбовской губернии в 1925–1927 гг., коммунисты ничем себя не проявляли, недостаточно прорабатывали письменные директивы высших партийных органов, не проводили индивидуальную связь, работу среди бедноты и беспартийных, не выявляли крестьянский актив29.
В целом, к традиционным формам партийного руководства (или контроля) – совещаниям секретарей ячеек, переброскам и командировкам инструкторов или опытных работников на места прибавились новые: выявление партийных и беспартийных активистов, выдвижение активных беспартийных работников. В то же время совершенствовалась организационная работа за счет укрепления инструкторского аппарата. Основное внимание на местах уделялось подбору секретарей волостных комитетов партии и сельских ячеек волостного масштаба. Что же касается активности членов деревенских организаций, то она была значительно слабее, чем в городе. Член ЦКК ВКП(б) Я.А. Яковлев констатировал, что в Знаменской волости крестьяне и коммунисты живут «сами по себе» и не мешают друг другу30.
Таким образом, с 1924 г. одной из главных задач сельских коммунистов являлось привлечение к партийной работе крестьянского актива с тем, чтобы при постоянно возрастающей активности крестьянства оказывать влияние на перевыборы Советов и исключить их стихийность. Однако выявление такого актива составляло определенную трудность: например, активом считали только таких крестьян, которые посещали собрания, хотя и не проявляли себя активно. А тех крестьян, которые действительно были активны в общественной жизни села и пользовались авторитетом среди масс, называли «бузотерами», «демагогами» и т.п. и только потому, что они критиковали ячейку. В Знаменской волости партийная ячейка даже создала из крестьянского актива особую организацию. В большинстве сельских парторганизаций коммунисты не понимали целей и смысла этой работы, продолжали использовать методы военного коммунизма31. В целом, сельские коммунисты с трудом воспринимали партийный курс и тем более изменения партийных установок.
Местные партийные органы осуществляли партийное руководство путем отбора и перемещения кадров. Так, в губерниях ЦЧО пополнение руководящих кадров, как партийных, так советских и торгово-кооперативных происходило за счет прибывших из ЦК РКП(б) и из других губерний, окончивших губернские совпартшколы, а также выдвиженцев и «мобилизованных» из других отраслей. Списки ответственных работников уездного масштаба утверждались постановлением Президиума Губкома. Например, в Липецком уездном комитете ВКП(б) в 1923 г. было 14 ответственных работников уездного масштаба, из которых 8 выбыло в другие города Тамбовской губернии. В том же году в Липецкий уездный комитет прибыло 10 руководящих партийных работников такого же уровня, из которых 5 также выбыло в Москву и Тамбов. Руководителей губернского масштаба в Липецком уезде было 4 человека, 3 из них выбыло в Тамбов и Борисоглебск. В резерве находились ответственные работники, занимающие различные должности в советских учреждениях, которые справлялись со своими обязанностями, соответствовали своим назначениям, пользовались уважением крестьян32. К концу 1925 г. через аппарат Тамбовского губернского комитета партии прошло 617 человек, прибыло из ЦК РКП(б) 9 работников губернского масштаба, 21 – уездного, 55 – рядовых, всего 85 человек. Прибыло из других губерний 6 работников уездного масштаба, 86 – рядовых, всего 92 человека33. При нехватке кадров «фронт» руководящей партийной работы возрастал: советская работа, выборы, комсомол, крестьянские комитеты общественной взаимопомощи, кооперация, работа среди женщин, работа среди батраков, пополнение партийных рядов34.
К 1925 г. в Тамбовской губернии был решен вопрос с подбором секретарей волостных комитетов и ячеек. Что же касается сельских ячеек, то они в большинстве своем оставались слабыми, коммунисты не понимали общих задач партии и, соответственно, не могли претворить их в жизнь, не могли выполнять указания вышестоящих партийных органов. Такая работа сельских коммунистов объяснялась, прежде всего, объективными причинами: политической и общей безграмотностью, территориальной разбросанностью и удаленностью партийцев от своих организаций, отсутствием подготовленных руководителей – секретарей ячеек и их частой сменой35. Секретарь Тамбовского губкома ВКП(б) И.Г. Бирн так определил качество политической подготовки партийцев: политически малоразвитых – 2383 (65 %), со средним уровнем подготовки – 1247 (32 %), вполне подготовленных – 125 (3 %)36.
В ЦЧО в соответствии с административно-территориальной реформой 1928 г. взамен старого деления на губернии, уезды и во- лости были введены новые административные единицы – области, округа, районы и сельские советы. ЦЧО, состоявшая из 4 губерний, была разделена на 11 округов, которые делились на 178 районов. Таким образом, вместо четырех губерний были образованы более мелкие территориальные единицы – округа, а вместо уездов – более мелкие районы. Новое территориальное деление привело к перестройке системы партийных органов: были созданы Областной комитет ВКП(б) ЦЧО в городе Воронеже, окружные и районные комитеты. Выросло количество партийно-государственных и хозяйственных чиновников.
Положение с подбором кадров не только ответственных работников в губернии, но и с рядовыми коммунистами оставалось тяжелым, неблагополучным в течение всех 1920-х гг.37 С переходом к новому административно-территориальному делению и образованием округов в мае 1928 г. проблемы с обеспечением кадрами новых территориальных комитетов значительно обострились. Ежегодно проводились окружные партийные конференции. Усложнение кадровой проблемы проявлялось, прежде всего, в частой смене секретарей окружкомов. Так, секретарями Орловского окружкома были: в 1928 г. – В.А. Дрокин, в 1929 г. его сменил Дробенин, на его место в том же году пришел С.О. Котляр, которого в последний год существования окружкомов в 1930 г. сменил Фролов. В 1928 г. из Воронежского окружкома О.Т. Галустян был переброшен в Тамбов, где он сменил на должности секретаря окружкома известного партийного и государственного деятеля И.И. Межлаука, которого после недолгой работы в Тамбове вновь возвратили в столицу, где он стал вскоре секретарем Совета труда и обороны и заместителем управляющего делами в СНК СССР38.
Партийных руководителей не хватало для выполнения основной практической работы, особенно в округах и районах39. Лучших работников из бывших уездных аппаратов переводили в районы, а губернских – в округа. Стояла задача «укрепления и обновления» партийных кадров. Одновременно шло выдвижение более стойких, энергичных и работоспособных работников из производственных коллективов на районную, окружную и областную партийную работу. Однако людей не хватало40.
Биография секретаря Добринского РК ВКП(б) Дмитрия Ксенофонтовича Афанасьева являлась отражением партийной истории 1920-х гг. Он родился в 1892 г., вступил в партию в 1920 г., не окончил никаких учебных заведений, кроме девятимесячных курсов комиссаров. С 1922 по 1925 гг. являлся председателем Мордовского волисполкома, с 1925 по 1927 гг. – заведующим уездным отделом социального обеспечения населения, с 1927 по 1928 гг. – заместите- лем заведующего уездного земельного управления, а в 1928 г. стал секретарем райкома ВКП(б)41.
Наиболее распространенным средством борьбы с негативными явлениями были партийные проверки. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б), в ЦЧО в 1928 г. была проведена проверка, которая показала, что в отдельных округах освобождению от занимаемой должности подлежали от 4 до 15 % членов ВКП(б), а в одном из округов эта цифра составила 36 %. В целом ряде окружкомов с момента их организации, с июля 1928 г. до конца 1928 г. не было инструкторов по оргработе и по работе в деревне. Проверка также выявила «засоренность аппарата чуждыми элементами», связь руководящих работников – коммунистов и беспартийных – с кулацкими элементами, отдельные факты искривления партийной линии. По мнению руководства, проверка работы в некоторых округах и районах в связи с убийствами, поджогами селькоров, председателей сельсоветов, секретарей партийных ячеек подтверждала слабость работы некоторых организаций, главным образом, из-за недостатка руководящих кадров. Состояние земельного, торгово-кооперативного аппаратов также было неудовлетворительным. Выборочная проверка низового кооперативного аппарата, в результате которой 233 человека, или 25 % от общего числа проверенных, подлежали снятию с занимаемых должностей42.
Как правило, проверка ЦК ВКП(б) и обкомом ВКП(б) ЦЧО руководителей различных организаций Центрального Черноземья заканчивалась увольнением многих коммунистов и выдвижением новых руководящих кадров. Так, в 1928 г., в условиях острой потребности новых людей, была проведена мобилизация 100 коммунистов из крупных городских организаций на партийную, советскую и кооперативную работу в районы. Тем не менее, в округах и районах не хватало руководящих кадров. Секретариат обкома ВКП(б) ЦЧО направил Секретарю ЦК ВКП(б) Л.М. Кагановичу и Сталину докладную записку с просьбой прислать, командировать в течение ноября 1928 г. как минимум 35–40 работников окружного масштаба за счет более передовых промышленных губерний для использования их в предстоящей кампании перевыборов парторганов. Секретарь обкома ВКП(б) ЦЧО И.М. Варейкис писал, что они «нужны, прямо-таки до зарезу»43.
В конце 1920-х гг. усилившийся «нажим» на крестьянство означал раскулачивание и приводил к росту крестьянского сопротивления и увеличению количества уголовных преступлений против сельских коммунистов и активистов – особенно убийств и покушений на убийство. Осенью 1928 г. 79 % всех уголовных преступлений в ЦЧО происходили в сельской местности44. Большинство престу- плений имело политический характер, партийное руководство усилило контроль за низовыми партийными организациями. В октябре 1928 г. специальные комиссии обкома обследовали ряд районных партийных комитетов, в чьем районе произошли террористические акты. Так, по заключению комиссии, в Уваровском районе Тамбовского округа партийное руководство было очень слабым, в Советах преобладали кулаки и зажиточные. Партийная «верхушка» разложилась, погрязла в пьянстве, зажимала партийную активность, искажала партийную линию. Бюро обкома ВКП(б) Центрального Черноземья постановило направить на постоянную работу в Уваровский район ряд работников, выдвинуть новые кадры из местного «здорового» актива, усилить инструктаж со стороны окружного партийного руководства45.
Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) 1928 г. констатировал, что среди деревенских коммунистов было незначительное количество сельских пролетариев и ничтожное число колхозников, в некоторых случаях преобладали зажиточные крестьяне и даже кулачество, чуждое рабочему классу. Поэтому на пленуме была поставлена задача «коренной чистки» и значительного обновления сельских организаций46.
В декабре 1928 г. И.М. Варейкис дал пояснения редактору газеты «Коммуна» Швер о недопустимости грубой политической ошибки. По его мнению, в передовой статье «Коммуны» от 7 декабря 1928 г. была в целом правильно поставлена задача партии: перевыборы Советов нужно было вести под знаком борьбы с уклонами – правым, троцкизмом, примиренчеством. Однако, по указанию партийных властей, главной задачей партии объявлялась борьба против контрреволюционных элементов в стране47. Партийные секретари не справлялись с работой по руководству Советами. «Наша задача, – утверждал Варейкис, – мобилизовать к перевыборам Советов все пролетарские силы в стране, деревенскую бедноту, достигая прочного соглашения на перевыборах с середняком, двигаться развернутым фронтом против капиталистических, кулацких элементов»48.
Высшее партийное руководство на Объединенном апрельском 1929 г. пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) связывало борьбу за социализм с генеральной чисткой партии49, начало которой было положено на XVI конференции ВКП(б) в апреле 1929 г. В соответствии с решениями ноябрьского 1928 г. пленума ЦК ВКП(б), под лозунгом развертывания жесткой самокритики партия призвала к беспощадной борьбе с фактами разложения и бюрократизма. Так называемая кампания самокритики началась в печати «сверху» и должна была охватить низовой партийный аппарат. Беспощадная самокритика рассматривалась как одно из средств борьбы с внутренними врагами большевиков и повышения политической активности масс.
В целом, во время партийной чистки в сентябре–декабре 1929 г. коммунистам были предъявлены следующие обвинения, которые содержались в их характеристиках: слабое политическое развитие, отсутствие классового чутья, неуплата членских взносов, слабая работа по перевыборам Советов, выпивка, крещение детей, взяточничество, растраты, использование служебного положения в личных целях, искривление линии партии, грубость, невнимательное, недобросовестное, халатное отношение к своим обязанностям, отказ по первому предложению идти в колхоз, нечуткое отношение к бедноте, отказ от работы по хлебозаготовкам, грубость, невыполнение директив партии, «якшание» с чуждым элементом, искривление классовой линии, невыполнение партийной нагрузки, трусость в момент хлебозаготовок, связь с уголовными элементами, отсутствие способности проводить задачи партии в деревне, многоженство50. Однако настоящим бедствием была пьянка коммунистов. «Открытая выпивка» была распространена даже в наиболее благополучном Ищенском волостном комитете Липецкого уезда51.
Исключить коммуниста из партии могли за отказ от работы по хлебозаготовкам и крещение ребенка. Тем, кто прошел проверку, было предложено в течение девяти месяцев ликвидировать политическую неграмотность и вступить в колхоз52. Чистка должна была не только встряхнуть коммунистов, укрепить их моральный облик, но и превратить их в идеологически подготовленных борцов против любых врагов партии. Таким образом, партийная чистка 1929 г. превращались в политическую чистку.
В 1929 г. одновременно происходили важные изменения и во внутрипартийном руководстве. В условиях нарастания хозяйственных трудностей, связанных с проблемой хлебозаготовок, партийное руководство стремилось взять весь крестьянский хлеб с помощью репрессивных мер. Это привело к чрезвычайному повышению секретности в партийных органах. После апрельского 1929 г. Объединенного пленума ЦК И ЦКК ВКП(б) генеральная линия партии и решения ЦК должны были проводиться в жизнь неукоснительно, причем принимались специальные меры для гарантирования секретности решений ЦК и По-литбюро53. Порядок хранения секретных постановлений окружкомов был детально регламентирован летом-осенью 1929 г. во время новой хлебозаготовительной кампании.
***
Таким образом, строительство партийных организаций происходило сверху вниз, из центра к периферии. Партийные ячейки ЦЧО были более чем наполовину сельскими, они возникли в основном в 1920 г. Несмотря на малочисленность сельских коммунистов в партийных ячейках Центрального Черноземья, их количество было преобладающим.
Массовый прием сельского населения в партию не способствовал созданию прочной опоры большевиков в деревне, тем более, что крестьяне составляли только часть вступивших в годы массовых приемов в ВКП(б). Прием крестьян в партию не достигал того размаха, которого требовал ЦК ВКП(б).
Губкомы были полностью обеспечены кадрами партийных работников только к 1925 г. Среди партийных руководителей были умелые организаторы и проводники партийных решений в селах Центрального Черноземья. На протяжении всех 1920-х гг. для партийных комитетов ЦЧО был характерен высокий уровень сменяемости партийных руководителей.
Курс партии «Лицом к деревне» 1924 г. фактически не был реализован в Центральном Черноземье, вокруг партии не был сформирован многочисленный беспартийный актив из крестьян. Традиционные формы партийного руководства – совещания, переброски и командировки опытных работников на места приводили к бюрократизации партийной жизни.
Во второй половине 1920-х гг. парткомы зачастую заменяли руководство и организацию всей жизни в селе инструктированием и контролем.
Накануне сплошной коллективизации была усилена секретность не только решений партийных органов сверху донизу, но и в целом партийного делопроизводства.
Генеральная чистка 1929 г. должна была способствовать искоренению болезненных явлений в партии, способствовать единству партийных рядов и повышению дисциплины накануне массовых политических и хозяйственных кампаний в деревне.