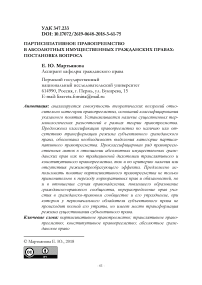Партисипативное правопреемство в абсолютных имущественных гражданских правах: постановка вопроса
Автор: Мартьянова Е.Ю.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское право
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Анализируется совокупность теоретических воззрений относительно категории правопреемства, оснований классифицирования указанного понятия. Устанавливается наличие существенных терминологических разночтений в рамках теории правопреемства. Предложена классификация правопреемства по наличию или отсутствию трансформации режима субъективного гражданского права, обоснована необходимость выделения категории партиси-пативного правопреемства. Проклассифицирован ряд правопреемственных актов в отношении абсолютных имущественных гражданских прав как по традиционной дихотомии транслятивного и конститутивного правопреемства, так и по критерию наличия или отсутствия режимопреобразующего эффекта. Предложено использовать понятие партисипативного правопреемства не только применительно к переходу корпоративных прав и обязанностей, но и в отношении случая правонаделения, повлекшего образование гражданско-правового сообщества, перераспределение прав участия в гражданско-правовом сообществе и его упразднение, при котором у первоначального обладателя субъективного права не происходит полной его утраты, но имеет место трансформация режима существования субъективного права.
Партисипативное правопреемство, транслятивное правопреемство, конститутивное правопреемство, абсолютное гражданское право
Короткий адрес: https://sciup.org/147230031
IDR: 147230031 | УДК: 347.233 | DOI: 10.17072/2619-0648-2018-3-61-75
Текст научной статьи Партисипативное правопреемство в абсолютных имущественных гражданских правах: постановка вопроса
Ценность имущественного права выражается в его оборотоспособности, именно с появлением возможности перехода прав и обязанностей от одного лица к другому право приобретает имущественный характер1. Вопросы выявления сущности и механизма движения прав (требований) имеют узловое значение для осмысления правовой природы субъективных гражданских прав (требований) и освещаются в рамках теории правопреемства. Проблематика обозначенной концепции характеризуется не только наличием терминологических разночтений, отсутствием единого представления о содержательном наполнении понятия правопреемства, но и дезинтеграцией в вопросе выделения классификационных единиц данной категории. Разрешение указанных вопросов имеет значение для выявления особенностей правового режима и оборота абсолютных имущественных гражданских прав, в том числе исключительного авторского права, долей в нем, включая осмысление конструкции правонаделения данным видом субъективного права, обоснование возможности отчуждения доли в изначально бездолевом исключительном авторском праве по договорным основаниям и проч.
Имеющиеся в теории права воззрения на природу правопреемства выражаются в существовании транзитивного и дискретного подходов.
Теоретической платформой транзитивного (классического) учения о правопреемстве являются труды представителей исторической школы права. Ф. К. Савиньи полагал, что правопреемство представляет собой юридический факт, последствие которого выражается в изменении субъекта правоотношения при сохранении самого правоотношения2. Приведенная точка зрения получила широкое распространение в дореволюционный период развития отечественной юридической науки. Так, Д. И. Мейер именовал производным правопреемством приобретение правопреемником субъективных прав и обя-занностей3, обращался к изучению структуры правопреемства, называя в качестве его элементов акт приобретения, объект и субъект4. По мысли Черепахина Б.Б., правопреемство представляет собой правовой способ перехода субъективных прав от одного участника гражданского оборота к другому, при котором прекращается право одного лица при приобретении данного права другим лицом5. С данной позицией солидаризируются и другие иссле-дователи6. О.Г. Ломидзе предлагает понимать под правопреемством – «способ отчуждения субъективного права, при котором возникновение права у правоприобретателя зависит от наличия права у предшественника», при котором происходит установление границ дозволенного поведения у правопри-обретателя и перенос таких границ праводателя относительно одного и того же социального блага7. Транзитивный подход охарактеризован К. И. Склов-
Е. Ю. Мартьянова ________________________________________________________________ ским путем использования сравнения перехода права к правопреемнику и перемещения физического тела в пространстве8.
Дискретный подход имеет своим содержанием утверждение о невозможности перехода права от одного лица к другому, в связи с тем, что у пра-водателя происходит исчерпание имеющегося права с одновременным возникновением права у правоприобретателя9. Точка зрения, отрицающая правопреемство в значении перехода прав от одного лица к другому, высказывалась немецкими юристами, в том числе была поддержана Зибенгааром10. Сторонником изложенного подхода является В. А. Рясенцев, отмечающий, что недопустимо уподоблять иделогические категории объектам материального мира и ошибочно полагать будто права и обязанности могут иметь действительное движение в пространстве11. Аналогичные доводы приводит С. А. Муромцев, отмечая, что «преемство в правах есть абсурд» и при передаче права собственности или права требования происходит прекращение одного права и появление взаимен иного12. К. И. Скловский также полагает, что «правопреемство не более чем метафора, не имеющая точного юридического смысла»13.
В юридической литературе имеет место позиция, согласно которой при признании правопреемства как перехода прав и обязанностей от одного лица к другому отрицается возможность правопреемства в абсолютных правоотношениях. Для подтверждения данной точки зрения Л. А. Чеговадзе, С. С. Каширский предлагают рассмотреть ситуацию, при которой «физические лица приобретают квартиру у организации-застройщика»14, утверждая, что существуют различия между исходным правом организации и правом, возникающим у физического лица, в связи с наличием отличий правового режима жилых помещений, связанных с правовым статусом носителя субъективного права. То есть авторы отрицают транслятивный эффект при совершении подобного рода сделок. Приведенный вывод представляется спорным ввиду необоснованного смешения категорий правового режима абсолютного права и правового статуса обладателя права. Безусловно, осуществление абсолютного имущественного права и набор потенциально реализуемых правомочий зависит от правового статуса лиц, обладающих данным правом. При этом содержание абсолютного права не зависит от правового статуса лица им обладающего. Принимая логику рассуждений Л. А. Чеговадзе, С. С. Каширского, можно прийти к сомнительному выводу об отсутствии правопреемства при отчуждении жилого помещения в пользу несовершеннолетних или же лица, состоящего в браке, только на основании закрепления особенностей осуществления права собственности в отношении приобретенного объекта.
Кроме того, некоторые исследователи, отождествляют понятие деривативной (производной) передачи прав и правопреемства15, указывая, что данные категории характеризуют разные стороны одного и того же явления. Ряд авторов усматривают идентичность содержания понятий правопреемства и правоотчуждения16, выделяется точка зрения об определении правопреемства через категорию правонаделения17.
Оценивая обоснованность базовых теорий правопреемства, В. С. Витко справедливо отмечает, что определение правопреемства как перехода гражданских прав и обязанностей от одного лица к другому является следствием использования категории «перехода права» во многих положениях ГК РФ и позволяет избежать разрыва взаимосвязи первоначального и последующего обладателя субъективного права, что является преимуществом перед дискретным подходом18.
Наряду с транзитивным и дискретным подходами к определению понятия правопреемства сформировались представления о существовании двух видов правопреемства: транслятивного и конститутивного. По мысли Б. Б. Черепахина, в основе дихотомии конститутивного и транслятивного правопреемства лежит критерий, связанный с определением характера последствий, возникающих в результате распоряжения вещью19. Так, отмечается, что при транслятивном правопреемстве, именуемом также передаточным, переносящим20, имеет место передача конкретного субъективного права с утратой его праводателем, а при конститутивном – установление субъективного права иного содержания, чем то, что имеется у праводателя. О. А. Останина полагает, что одним из ключевых признаков транслятивного правопреемства является последствие в виде несохранения за праводателем права истребования переданной вещи по основаниям, не связанным с признанием сделки недействительной или незаключенной21.
Характеризуя конститутивное (правоустановительное)22 правопреемство, Д. В. Носов отмечает, что для него характерно возникновение нового правоотношения, имеющего меньший объем по сравнению с исходным23. По мнению М. Г. Буничевой, конститутивное приобретение права характеризуется одновременным существованием материнского и дочернего правоотношения, и ввиду того, что замена субъекта в исходном правоотношении не происходит, данное правовое явление не является разновидностью правопре-емства24. Из рассуждений Р. А. Баркова, О. Е. Блинкова следует, что конститутивный характер может проявляться в установлении законоположений об ограничении ответственности правопреемника стоимостью передшего к нему имущества, как это имеет место в наследственном правопреемстве25.
В цивилистических трудах концепция правопреемства нередко рассматривается в преломлении к определенному виду субъективного гражданского права. Так, обращаясь к исследованию проблемы правопреемства в интеллектуальных правах, О. В. Карелина заключает, что «особенности передачи права зависят от его вида, который характеризуется не только объектом, но и другими признаками», в связи с чем формирование концепций правопреемства должно следовать с применением индуктивного метода26. М. А. Астахова отмечает, что правопреемство исключительных интеллекту- альных прав является конститутивным в виду того, что не происходит фактического перемещения каких-либо объектов от праводателя к правоприобрета-телю в виду нематериального характера данного вида права27. Изложенная точка зрения может быть отнесена к дискретному подходу, в качестве критики традицонно встречающему обоснованно заявляемый аргумент об отсутствии необходимости перемещения физических тел для свершения акта правопреемства, о несвязанности абстрактной теоретической конструкции «перехода права» и фактическим механическим перемещением объектов28. В качестве примера транслятивного правопреемства в теории интеллектуальных прав называют договор об отчуждении исключительного авторского права29, а к конститутивному правопреемству относят лицензионный договор30. Приведенные позиции в научной литературе также относятся к спорным. Так, Ю. А. Гузеев полагает, что заключение лицензионного договора приводит к последствиям противоположным правопреемству в виду отсутствия непосредственной передачи прав и является «правоустанавливающим правопри-обретением», которое, по мысли автора, в отличие от правоопреемства не влечет утрату права первичным обладателем исключительного права, но обременяет его31. Данная позиция представляется обоснованной и является отражением теории, ставящей под сомнение корректность выделения конститутивного вида правопреемства в виду отсутствия соответствующих сущностных признаков.
Вопрос о возможности установления долевого режима исключительного авторского права, принадлежащего лицу единолично, в юридической науке остается неразрешенным. Рассогласованность позиций усматривается даже в наличии терминологических разночтений в отношении использования понятия, обозначающего юридический факт установления долевого режима ранее бездолевого исключительного права: в цивилистической литературе ис- пользуются такие термины как «выделение доли»32, «раздел исключительного права на доли»33 и др. Данные категории содержатся в Гражданском кодексе РФ 34(далее – ГК РФ) в отношении вещных прав, при этом в части четвертой ГК РФ приведенная терминология отсутствует. В разделе II ГК РФ понятие «выделение доли» в праве собственности используется только в значении выделения доли в натуре, что невозможно в отношении исключительных авторских прав. В связи с этим в заданной законодателем коннотации употребление указанного понятия применительно к исключительным правам неудобомыслимо. Во избежание нарушения единства терминологического аппарата представляется возможным именовать группу юридических фактов, на основании которых образуется множественность лиц в исключительном праве, ранее находившемся в едином, бездолевом правовом режиме, основаниями партиципации права (лат. «participatio» – сопричастность, соучастие). При этом такие юридические факты имеют место уже после возникновения исключительного права, т. е. являются производными35.
Выбор данного термина обусловлен его исходным семантическим значением, а также сложившейся традицией словоупотребления в юридической науке. Так, партисипативным именуют способ урегулирования споров во французском законодательстве, вид юстиции в Канаде именно в связи с наличием у данного вида разрешения спора характера совместности36.
В. В. Прохоренко ввел в научный оборот понятие партисипативного обязательства для обозначения взаимной связи между акционерным обществом и его участником-акционером, указав, что свойства данного отношения предопределяют характер взаимодействия органов управления общества37. Представление о правовой природе взаимоотношений, складывающихся между участниками юридического лица и самим юридическим лицом, не находит широкой поддержки среди исследователей. Так, Ю. С. Поваров полагает, что правоотношения по поводу участия в юридическом лице обладают столь существенной спецификой, что не могут поглощаться конструкцией обязательства. Законодательное закрепление категории корпоративных отношений в ст. 2 ГК РФ как понятия, не совпадающего с термином обязательства, используется в доктрине в качестве подтверждения позиции о самостоятельности и уникальности природы прав участия в корпоративных организациях.
В настоящее время в юридической литературе категория партисипа-тивного правопреемства используется для обозначения специфики правопреемства во всех видах корпоративных правоотношений. В ходе рассуждений об определении вида правопреемства, которое имеет место при отчуждении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, Е. А. Кириллова приходит к выводу о необходимости учета особой природы корпоративных прав при изучении перехода прав участия, о невозможности отнести данный вид правопреемства к транслятивной или конститутивной конструкции. Для обозначения вида правопреемства, связанного с отчуждением доли в уставном капитале общества третьему лицу, Е. А. Кириллова, использует категорию партисипативного правопреемства. При этом полагает, что при отчуждении доли самому обществу партисипативный характер перехода прав участия не усматривается38. Идентичной точки зрения придерживается и Н. Г. Фроловский39. Данная позиция представляется спорной ввиду затруднительности уяснения отличия данного вида правопреемства от транс-лятивного. В обоих приведенных автором случаях имеет место полная утрата субъективного права лицом, отчуждающим долю в уставном капитале. При отчуждении доли в пользу общества имеет место погашение корпоративного правоотношения, права участия дезактивируются и переходят в состояние потенциальной востребованности.
Представляется возможным использовать категорию партисипативного правопреемства не только применительно к переходу корпоративных прав и обязанностей, но и в отношении случая правонаделения, повлекшего образование гражданско-правового сообщества, перераспределение прав участия в гражданско-правовом сообществе и его упразднение, при котором у первоначального обладателя субъективного права не происходит полной его утраты, но имеет место трансформация режима существования субъективного права.
В юридической науке вопрос об обоснованности выделения специфических черт механизма правопреемства доли в субъективном праве был рассмотрен применительно к праву собственности. Так, Г. С. Васильев утверждает, что при отчуждении доли в праве собственности на имущество какой-либо специфики по сравнению с отчуждением единого субъективного права с позиции теории правопреемства не усматривается, поскольку для иных участников гражданского оборота не имеет значение факт сообладания правом40. Данная точка зрения не согласуется с положениями законодательства, предусматривающими особенности отчуждения отдельных видов имущества, находящихся в собственности нескольких лиц. Например, при установлении несоблюдения права преимущественной покупки применяемые по решению суда негативные последствия касаются, прежде всего, самого покупателя спорной доли в праве собственности, права и обязанности которого по решению суда переводятся на сообладателя субъективного права, чье право преимущественной покупки было нарушено. В связи с чем покупатель не достигает желаемого правового результата. Изложенное не позволяет заключить, что внутренняя сторона взаимоотношений сообладателей субъективного права индифферентна третьим лицам.
Кроме того, Г. С. Васильев полагает, что в случае изменения режима общей совместной собственности на общую долевую правопреемство отсутствует. С данным выводом представляется возможным согласиться в случае, если предметом соглашения сообладателей права выступает лишь изменение правового режима субъективного права, наблюдается только трансформативный эффект, отсутствует замена субъекта правоотношения. При этом необходимо отметить, что в ряде ситуаций такой юридический факт трансформации может быть слит с фактом правопреемства. Так, в случае если лицо единолично обладает правом собственности и производит отчуждение доли данного субъективного права41, то трансформативный и правопреемственный юридические факты сливаются, что может выражаться в заключении договора купли-продажи данной доли, в иной форме ее отчуждения без составления отдельного акта, фиксирующего решение собственника об установлении в отношении своего субъективного права режима общей собственности.
Особенности правопреемства, в ходе которого происходит трансформация режима субъективного гражданского права, видятся в следующем:
– во-первых, при установлении режима сообладания изначально бездо-левым субъективным правом имеет место образование гражданско-правового сообщества, в смысле ст. 181.1 ГК РФ, которое предполагает возможность взаимодействия совместных обладателей права в такой форме как принятие решения, по правилам главы 9.1 ГК РФ, с возникновением ряда прав и обязанностей, не свойственных единоличному обладанию правом. Кроме того, для сособственников устанавливаются особые правила распоряжения совместным имуществом, в том числе необходимость соблюдения права преимущественной покупки. При погашении сообладания также имеют место изменения, связанные с изменением характера и порядка определения судьбы субъективного права;
– во-вторых, транслятивное и партисипативное правопреемства являются единицами разных классификаций ввиду различного основания их выделения и содержательного наполнения понятия. Основанием разграничения транслятивного и конститутивного правопреемства выступает характер возникающего у правопреемника права: в конститутивном имеет место установление нового права, отличного от исходного, а в транслятивном усматривается тождество передаваемого и приобретаемого права. Критерием выделения партисипативного правопреемства является наличие или отсутствие трансформативного эффекта в отношении режима субъективного права;
– в-третьих, в качестве обоснования существования еще одной классификации видов правопреемства по наличию или отсутствию трансформации режима права следует указать не только на несовпадение данного основания с критерием демаркации классификации конститутивного и трансля-тивного правопреемства, но и на возможность классифицирования ряда юридических фактов правопреемства одновременно по обеим классификациям. Например, в ситуации, когда при наличии в гражданско-правовом сообществе двух сообладателей права один из них производит отчуждение своей доли в пользу второго сообладателя, усматривается как партисипа-тивный, так и транслятивный характер правопреемства. Транслятивность проявляется в совпадении содержания и объема переданного и принятого права, в замене субъекта правоотношения. Признаки партисипативного правопреемства видятся в упразднении гражданско-правового сообщества, в прекращении прав участия в нем, что влечет последствия, связанные с изменением формы осуществления данного субъективного права.
При отчуждении доли в праве, первоначально находившемся в режиме единоличного обладания, у праводателя не происходит полного погашения субъективного права, имеет место лишь изменение объема правомочий, им осуществляемых, новое право, отличное по содержанию от изначально существовавшего, не возникает. Поэтому данную конструкцию следует отнести не конститутивному, а к транслятивному правопреемству. Партисипативный характер в указанном случае также проявляется в установлении гражданско-правового сообщества, появлении прав участия в нем. В случае, если лицо, отчуждающее единолично принадлежащее ему субъективное право, передает данное право в сообладание двум и более лицам, также имеются основания для утверждения о факте наличия признаков и партисипативного и трансля-тивного правопреемства. Изложенное справедливо и для случая перераспределения долей в субъективном праве, которое происходит путем отчуждения части доли в праве одним из сообладателей другому сообладателю или же третьему лицу. В указанных случаях имеют место перераспределение прав участия и, соответственно, изменение объема осуществляемых правомочий. При этом при отчуждении всей имеющейся у лица доли в субъективном гражданском праве необходимо признать наличие признаков транслятивного правопреемства, выражающихся в полном выбытии одного лица из гражданско-правового сообщества и появлением иного, в тождестве объекта правопреемства.
Правопреемство может носить также партисипативный и конститутивный характер. Например, в случае установления залога исключительного авторского права в пользу двух и более лиц имеется установление гражданско-правового сообщества, участниками которого являются созалогодержатели. В данной конструкции усматривается как установление нового, изначально не существовавшего ограниченного субъективного права, так и возникновение прав участия в гражданско-правовом сообществе.
Таким образом, предложенная классификация имеет основание демаркации, отличное от деления правопреемства на конститутивное и трансля-тивное. Необходимость выделения классификационных групп правопреемства по критерию наличия или отсутствия режимопреобразующего эффекта обусловлена существенными отличиями последствий и процедуры между правопреемством, в ходе которого имеет место изменение режима субъективного гражданского права, и правопреемством, в ходе которого данный элемент отсутствует.
Список литературы Партисипативное правопреемство в абсолютных имущественных гражданских правах: постановка вопроса
- Аникин А. С. О договорном регулировании отношений без установления обязательств // ДНК Права. 2014. № 1.
- Астахова М. А. Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности: автореф. дис.. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007.
- Барков Р. А., Блинков О. Е. Эволюция основных положений о завещании: общие тенденции и перспективы их унификации на постсоветском пространстве // Наследственное право. 2013. № 4.
- Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М.: Юрид. лит., 1989.
- Буничева М. Г. Понятие правопреемства при реорганизации юридических лиц // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. Вып. 1 (15).