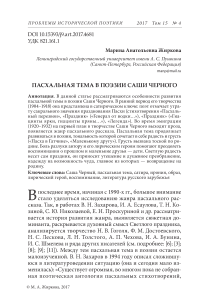Пасхальная тема в поэзии Саши Черного
Автор: Жиркова Марина Анатольевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.15, 2017 года.
Бесплатный доступ
Актуальность настоящего исследования обусловлена малой изученностью поэтики лагерной прозы О. В. Волкова. В статье исследована роль евангельских заповедей в определении нравственного облика человека в автобиографическом романе Волкова «Погружение во тьму» (1987): выявлены трансформации духовного состояния человека в тоталитарном государстве и в условиях лагерного заключения, проанализированы образы праведников, носителей христианских добродетелей, их место в современном писателю обществе. Евангельские заповеди представлены Волковым в романе не только как мерило духовно-нравственных качеств личности человека, политического и социального устройства, но и основание будущего духовного возрождения России. Автор раскрывает преображение личности через обретение веры в условиях несвободы и лагерной системы, отмечает факты эволюции нравственного состояния приспособленцев и потребителей. Сюжет романа осознан писателем как крестный путь, ведущий к духовному возрождению России.
Саша черный, пасхальная тема, сатира, ирония, образ, лирический герой, воспоминание, литература русского зарубежья
Короткий адрес: https://sciup.org/14749032
IDR: 14749032 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/j9.art.2017.4681
Текст научной статьи Пасхальная тема в поэзии Саши Черного
Впоследнее время, начиная с 1990-х гг., большое внимание стало уделяться исследованию жанра пасхального рассказа. Так, в работах В. Н. Захарова, И. А. Есаулова, Т. Н. Козиной, С. Ю. Николаевой, Е. Н. Проскуриной и др. рассматривается история развития жанра, выявляется сюжетная доминанта, раскрывается духовный смысл Светлого праздника, анализируется творчество Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, И. С. Шмелева и ряда других писателей (см. подробнее: [6]; [3]; [8]; [9]; [11]). Между тем пасхальная тема в поэзии остается малоизученной. В. Н. Захаров в 1994 году описал сложившуюся в литературоведении ситуацию (она и сегодня мало изменилась): «Существует огромная, во многом пока не собранная поэтическая антология пасхальных стихотворений, в создании которой участвовали почти все русские поэты. С этой точки зрения русская поэзия еще не прочитана» [6, 251]. Эти слова можно отнести и к сочинениям Саши Черного (Александра Михайловича Гликберга, 1880–1932).
Пасхальная тема проходит через все творчество поэта. Сатирически звучит она в ранний период (1904–1918) и представлена преимущественно в поэзии. Позднее, во время пребывания Саши Черного в эмиграции (1920–1932), — когда на первый план в его творчестве выходит проза и появляется жанр пасхального рассказа, — тональность пасхальной темы меняется: появляется не только светлая радость от праздника, но и грусть воспоминаний об оставленной родине.
В доэмигрантском творчестве поэт-сатирик показывает утрату сакрального значения празднования Пасхи, смысл которого зачастую сводится к чревоугодию и пьянству, к лени и праздности. Так, стихотворения «Пасхальный перезвон», «Праздник» («Генерал от водки…»), «Праздник» («Гиацинты ярки, гиацинты пряны…») написаны специально к пасхальным дням. «Пасхальный перезвон» опубликован в 13-м номере «Сатирикона» за 1909 год, который имеет подзаголовок «Пасхальный». Первое стихотворение с названием «Праздник» («Генерал от водки…») появилось в 16-м номере «Сатирикона» за 1910 год с таким же подзаголовком; второе стихотворение «Праздник» («Гиацинты ярки, гиацинты пряны…») опубликовано в приложении к газете «Речь» от 18 апреля 1910 года, в день Пасхи.
Небольшое стихотворение «Пасхальный перезвон» составляют три катрена. В начале каждого стиха передается звучание колокола. В первом катрене:
Пан-пьян! <…>
Пьян-пан! <…> Били-бьют! <…> Бьют-били! <…> во втором:
Дал-дам! <…> Дам-дал! <…> Пили-ели! <…> Ели-пили! <..>1 .
В третьем катрене повторяются начальные строки первого. Колокольный звон всегда был обязательной частью пасхального праздника, он являет собой присутствие Высшей Силы, Бога [13, 294–295]. О Христовом воскресении возвещает торжественный, радостный колокольный благовест [12, 375–376]. Но звуковая и смысловая игра в стихотворении Саши Черного снижает восприятие пасхального праздника. Как замечает З. Паперный, «поэт вслушивается в пасхальный перезвон, но и в веселом, призывном шуме праздника слышит печальную мелодию: оставь надежды на перемены, не тешься иллюзиями» [10, 259].
Первый и третий стихи начального четверостишия еще содержат «отголоски» светлого праздничного настроя:
-
< …> Красные яички.
-
< …> Радостные личики.
Однако созвучие колокольного перезвона со строками:
-
< …> Красные носы.
-
< …> Груды колбасы. (2-й и 4-й стихи . — М. Ж. ) (1, 75) —
такой настрой снимает. Все стихотворение создает сниженный образ празднования Пасхи, сводимый к пьянству, обжорству, получению взяток. Как итог: «Боль в животе» и «Конец мечте». Чудо не произошло, потому что не к Спасению и Небу устремлены отмечающие Светлый праздник. Символично, что позднее это стихотворение включено в состав первого сборника поэта под названием «Сатиры» (СПб., 1910) и помещено в раздел «Быт».
В названии «Праздник», данном сразу двум стихотворениям, Саша Черный не конкретизирует событие, как будто Пасха — всего лишь один из праздников в ряду многих других. Тогда как в православии Пасха — «праздник праздников», «торжество торжеств», «царь дней» [12, 373].
Для героев сатирической зарисовки «Праздник» («Генерал от водки…») день Пасхи — это повод засвидетельствовать свое почтение губернатору и хорошо выпить. Каждая строфа стихотворения представляет спешащих в гости к губернатору людей и заканчивается строкой-рефреном: «То-то будет выпито», графически отделенной от основной части строф:
Генерал от водки, Управитель акцизами, С бакенбардами сизыми, На новой пролетке, Прямой, как верста, —
Спешит губернатора сухо поздравить
С Воскресеньем Христа.
То-то будет выпито (1, 148).
Другое стихотворение с названием «Праздник» представляет собой описание праздничного стола:
Гиацинты ярки, гиацинты пряны.
В ласковой лампаде нежный изумруд.
Тишина. Бокалы, рюмки и стаканы
Стерегут бутылки и гирлянды блюд (1, 204).
Первые две строки не вызывают негативные ассоциации, но далее происходит усиление сатирического изображения праздничного застолья, достигающее своего апогея во втором четверостишии. Смысл Пасхи, связанный со спасением и возрождением, победой над смертью, перечеркивается введением в стихотворение образа смерти:
Бледный поросенок, словно труп ребенка,
Кротко ждет гостей, с петрушкою во рту (1, 205).
Эта метафора используется не только во второй строфе, но и повторяется еще раз, символично завершая стихотворение.
Поэт-сатирик естественно переходит от описания праздничного стола к описанию гостей, не делая между людьми и едой на столе особого различия. Праздничные блюда «оживают» за счет использования гоголевского приема олицетворения: «Бледный поросенок <…> ждет гостей», «Жареный гусак уткнулся в поросенка», «индюк румян и томно лаком », «Розовый редис купается в траве», «В водочных графинах спит шальной угар», «Окорок исходит жирными слезами », « Радостный портвейн играет » (курсив мой. — М. Ж .).
В описании гостей появляются животные характеристики, показаны маски вместо лиц, и по-гоголевски оживают части человеческого тела и одежда:
Снова кавалеры, наливая водку,
Будут целовать чужих супруг взасос И, глотая яйца, пасху и селедку, Вежливо мычать и осаждать поднос.
Сочно хохотать и с масок полнокровных Отирать батистом добродушный пот. Локоны и фраки, плеши и проборы Будут наклоняться, мокнуть и блестеть, Наливать мадеру, раздвигать приборы, Тихо шелестеть и чинно соловеть (курсив мой. — М. Ж .) (1, 205).
Смысл Светлого праздника сводится к поглощению пищи и попойке. Празднующие веселятся, «целуются», «сочно хохочут», «тихо шелестят», но их души мертвы. Потеря духовного составляющего в жизни людей ведет к их духовной смерти, умаляя значение жертвы Христа и отменяя возрождение человека. Напомним, что стихотворение завершается жутковатой картиной смерти: в строке «Бледный поросенок, словно труп ребенка» для читателя ударными оказываются именно последние слова.
В эмиграции пасхальная тема в творчестве Саши Черного представлена иначе. Трагически и безысходно она звучит в поэтическом цикле «Война», входящем в книгу стихов «Жажда» (Берлин, 1923). Саша Черный сам прошел через войну: с самого начала Первой мировой войны он находился в составе действующей армии и на собственном опыте убедился, что могут сделать с человеком боль и мучения (см. подробнее: [5]).
Ответом на людские страдания становится явление Христа на поле боя в стихотворении «Легенда» (1920). Его начало точно обозначает время и место событий, о которых пойдет речь, — это раннее пасхальное утро накануне боя:
Это было на Пасху, на самом рассвете:
Над окопами таял туман (2, 34).
По народным поверьям, на пасхальной неделе Христос ходит по земле среди людей в образе нищего [1]; [12, 383].
Пасхальный праздник — самый радостный, торжественный, связанный с чудом — Воскресением Христа. Человеческое сердце, душа в это время наполняются светом, благостью, любовью; праздничное настроение естественно совпадает с жизненным, биологическим ритмом человека и природы: весенним «пробуждением», обретением новых сил. Но в стихотворении Саши Черного сквозь рассеивающийся утренний туман вместо Светлого праздника предстает военный пейзаж:
Сквозь бойницы чернели колючие сети, И качался засохший бурьян (2, 34).
В стихотворении представлены приметы смерти и ада: окопы , черные колючие сети , засохший бурьян , жирный смрад , черные силуэты кружащихся ворон , темнота оврага . Даже солнце дано через образ, рождающий картины огненной лавы: «Там, где солнечный плавился склон». Христос проходит по полю боя: изранена, истерзана сама земля, мертвый мир открывается перед Ним, отсюда Его печаль:
…печально и тихо
Проходил одинокий Христос (2, 34).
Тишина сопутствует появлению Сына Божия: как будто все замерло в ожидании чуда, ее нарушает лишь щебет воробьев. Но она длится недолго, взрываясь карканьем взметнувшихся ворон и свистом «злых» пуль:
Но никто не узнал, не поверил виденью: С криком вскинулись стаи ворон, Злые пули дождем над святою мишенью Засвистали с обеих сторон… (2, 34).
В стихотворении Саши Черного Христос остается неузнанным: во время войны, все на земле забыли про Бога. Война опустошила сердца людей, прогнала любовь и веру, поэтому «никто не узнал, не поверил виденью».
Следует отметить, что лирический герой стихотворения Саши Черного рассказывает свою «легенду» не «со стороны», а изнутри, находясь в окопах:
Между нами и ими <…> Проходил одинокий Христос (курсив мой. — М. Ж. ) (2, 34).
Это он вместе с солдатами всматривается в туман, чувствует страх и видит в каждом врага, он не может поверить в чудо, потому что видит на войне кровь, смерть, искалеченных, убитых и раненых. Кажется, что нет конца и края войне, все чувства и желания притупляются, кроме одного — выжить. Появление Христа вызвало у каждого из видевших Его чувства страха и ненависти, поэтому Он оказывается расстрелянным с обеих воюющих сторон. Обыденность войны, привыкание к смерти переворачивают жизненные представления людей: пребывая фактически в аду, они утрачивают чувство любви и веру в Бога, погружаются в боль и ненависть. В результате люди оказываются не только свидетелями, но и участниками смерти Христа — разрушается личность, и сам человек несет разрушение:
Злые пули дождем над святою мишенью Засвистали с обеих сторон…
И растаял — исчез Он над гранью оврага…
Совершается великий грех, и каждый к нему причастен. Как пишет современный исследователь: «История о неузнанном Христе, проходившем по линии огня и обстрелянном с обеих сторон, должна показать, что в этой войне нет правых, а виноваты все» [2, 223].
Спаситель, победивший смерть, не может остановить страдания и гибель на земле, источником которых являются сами люди. Вместо любви и пасхальной радости — неверие и озлобленность, вместо праздника Воскресения — убийство и изгнание Христа. Одинокий, неузнанный, Он «растаял — исчез». Война — это мир без Бога, без смысла, без спасения.
В эмиграции Саша Черный постепенно уходит от сатиры, в его поэзии и прозе начинают доминировать ирония и юмор. Как и у многих писателей и поэтов, покинувших Россию, в изображение настоящего вплетается тоска по оставленной родине, прошлой жизни, ностальгические ноты во многом определяют тональность звучания его произведений.
Главная героиня стихотворения-посвящения «Маленькому другу» (1925) — маленькая девочка:
Пришел к своей принцессе, — Ей только пятый год.
Лирический герой поздравляет ее с Великим праздником:
Дитя! Христос Воскресе!
Хрустальное яичко
Принес тебе я в дар (2, 265).
Пасха становится поводом для новой встречи, подарка, общения, игры. Девочка напоминает своей игривостью, хрупкостью маленькую «ласковую птичку». Общение с ребенком восстанавливает в его памяти дорогие сердцу картины далекой ныне родины:
Твои слова смешные
На русском языке, Как ласточки родные Над кровлей вдалеке (2, 266).
Здесь, на чужбине, родная русская речь особенно дорога, а звучащая из уст маленькой, четырехлетней девочки смешна и забавна. У лирического героя (а вслед за ним и читателя) рождается щемящее чувство нежности и умиления, к радости праздника Пасхи, Воскресения Христа прибавляется восторг от встречи с « принцессой ».
Завершают стихотворение слова о будущем девочки, каким оно видится герою: «Когда-нибудь в России / Ты вспомнишь обо мне». Мотив непроходящей тоски по родине сменяется мотивом надежды на возможность возвращения эмигрантов в Россию, возвращения если не поколения поэта, то хотя бы их детей. Смешиваются все времена: будущее девочки, прошлое лирического героя, вызывающее ностальгию в настоящем, настоящая встреча с « маленьким другом » — и предстоящая прогулка становится словно осуществившейся, дорогим воспоминанием не только для лирического героя, но и для « маленькой принцессы ».
Если в ранней, доэмигрантской поэзии Саша Черный использовал поэтические маски, то в эмиграции происходит сближение лирического героя и поэта. Читатель оказывается сопричастен его чувствам: радости от встречи и общения с ребенком, от празднования Пасхи, а также щемящей тоске по родине и надежде на возвращение.
Современники Саши Черного отмечали его любовь к детям и умение находить с ними общий язык. Так, В. Л. Андреева вспоминала:
Маленьких детей он любил страстно, безмерно уважал и делался в их обществе совершенно другим человеком. Я как сейчас вижу такую картину: Саша Черный, думая, что его никто не видит, в укромном уголке нашего садика присел на корточки перед маленькой дочкой нашей дворничихи Нинеттой <…>. Глубокая нежность и ласка совершенно преображают обыкновенно брезгливое и недовольное лицо Саши Черного — оно просто светится добротой, всегда насмешливые глаза ярко блестят, он всей душой погружается в детский мир игры. Более того, он сам превращается в ребенка. И Нинетта, эта дикарка, от которой и слова-то никогда не дождешься, не то что улыбки, сейчас смеется каким-то воркующим счастливым смехом, что-то лепечет, ручонкой берет Сашу за нос и наклоняет ему голову, чтобы он мог лучше разглядеть какие-то подробности в туалете куклы. И он что-то ей говорит, говорит…2.
О том, что известный поэт пользовался особенной симпатией детей и «отдавал <им> свои лучшие досуги» писала и Л. Врангель в своих воспоминаниях о жизни русской колонии в Ла-Фавьере:
По вечерам, особенно, когда море поблескивало отблесками луны, на затихшем пляже собирались все дети около Саши Черного, жгли костры, жарили шашлыки, приправленные неиссякаемыми остроумными и художественными песенками и рассказами Саши Черного; дети вторили ему и пели смешные, веселые его песенки3 .
Вполне возможно, что у героини стихотворения «Маленькому другу» был реальный прототип.
В эмиграции в жизни Саши Черного постоянно присутствует забота о русских детях, волей судьбы лишенных своей родины, родной культуры, языка, поэтому в этот период творчества в основном он пишет для них: готовит хрестоматии, альманахи по русской литературе, выпускает ряд книг4. На «Страничке для детей» литературного журнала «Иллюстрированная Россия» (изд. Париж, 1924–1939 гг.) и в рубрике «Детский остров» газеты «Последние новости» (изд. Париж, 1920–1940 гг.) появляются его стихи, рассказы и сказки, где автор рассказывал детям о России, воспоминания о которой помогали и ему обрести смысл и опору в жизни.
Ностальгические ноты звучат и в стихотворении «Пасха в Гатчине» (1926), посвященном А. И. Куприну. Поэт вспоминает день, проведенный в гостях у писателя, с которым Сашу Черного связывала многолетняя дружба. Они познакомились в России и продолжали поддерживать дружеские отношения в эмиграции. Благодаря дочери А. И. Куприна сохранились письма Саши Черного, адресованные писателю5. Сохранилась также фотография с дарственной надписью: «Александру Михайловичу Гликбергу с нежной дружбой и всегдашней преданностью. А. Куприн. 1913. Гатчина. Весна» [7, 475]. Возможно, в стихотворении «Пасха в Гатчине» описан день, когда была подарена эта фотография.
Стихотворение представляет собой воспоминание, в котором переплетаются праздничное настроение, солнечный весенний апрель, радость встречи. Множество художественных образов наполняют поэтический мир: это веселые и шумные гости, два «сенбернарских пса», казацкий конь, хозяин коня — урядник, приглашенный в дом. В центре — образ писателя-друга, чуждого своему дому («Он сам похож на гостя / В своем жилье простом» (2, 257)), отчаянно храбрый и сильный, способный оседлать и усмирить чужого коня.
Стихотворение состоит из трех частей, различных по тональности. С ностальгической нотой звучит первая:
Из мглы всплывает ярко
Далекая весна:
Тишь гатчинского парка
И домик Куприна (2, 257).
Поэт и его друг-писатель давно покинули свою родину, память о которой поддерживает их в эмиграции. Стихотворение наполнено звуками (скрип крыльца, веселые голоса, игра на пианино) и яркими красками (зелень свежей апрельской листвы, алые гиацинты на праздничном столе, цветущая черемуха). Отдельные детали создают зримо-конкретный образ гатчинского гостеприимного дома, его хозяина и гостей.
Если в первой части стихотворения поэт рисует картину празднования Пасхи со стороны, то во второй — он находится внутри изображаемого мира, погрузившись в свои воспоминания. Центром изображения становятся появление всадника, описание коня и его укрощение. Словно очутившись во дворе гатчинского дома, среди гостей, он восхищается резвым казацким конем, гордится хозяином дома, способным укротить «буйного черта» и оказавшимся прекрасным наездником.
В третьей части описано возвращение гостей в дом, среди которых появляется новый — урядник, владелец и продавец коня. В конце поэт иронизирует по поводу пения гостей за праздничным столом:
Мы пели… Что? Не помню.
Но так рычит утес, Когда в каменоломню
Сорвется под откос… (2, 259).
Таким образом, в стихотворении происходит смена настроения: тоска о прошлом сменяется радостью от воспоминаний о давно прошедшем празднике и преображает настоящее. Празднование Пасхи вызывает воспоминания и несет спасение тоскующему сердцу, ту поддержку, которая так нужна не только другу-писателю, но и всем тем, кто волею судьбы оказался оторванным от родины. Пасхальная тема стихотворения связывается с идеей преображения человека, его восприятия жизни, духовного пробуждения, обновления, напоминает о радости и добре в этом мире.
Изменение принципов художественного изображения праздника Пасхи в поэзии Саши Черного во многом связано с переменами в жизни самого поэта. Отъезд в 1920 году в Германию определил его дальнейшую судьбу и направление творчества. В начале своего пребывания за рубежом поэт обращается к дореволюционному опыту и на первых порах напоминает о себе как о сатирике, но позднее в его творчестве начинают преобладать мягкость и лиризм, ирония и юмор, а не сатира и сарказм.
В эмигрантской лирике Саши Черного появление пасхальной темы во многом связано с тоской поэта по родине, что определяет эмоциональную тональность стихотворений, сочетающую радость и грусть. Воспоминания о покинутой России помогают преодолеть боль разлуки, в воображении снова оказаться в дорогих поэту местах. Образ Светлого праздника Пасхи несет утешение, душевное преображение («Пасха в Гатчине»), надежду на возможность чуда — возвращения на родину («Маленькому другу»). Исключение составляет стихотворение «Легенда», в котором изображен человек в экстремальных условиях — на войне. Здесь чувства любви и пасхальной радости сменяются неверием и озлобленностью, а праздник Воскресения — изгнанием Христа. Тема преображения и пасхального чуда получит свое развитие и в прозе — в пасхальных рассказах Саши Черного («Сырная пасха» (1925), «Ракета» (1925), «Пасхальный визит» (1926), «Пасхальный сюрприз» (1932)).
THE EASTER THEME IN THE POETRY
OF SASHA CHORNY
Дата поступления в редакцию: 28.08.2017
Список литературы Пасхальная тема в поэзии Саши Черного
- Агапкина Т. А. Мифо-ритуальный комплекс «хождение в жито»//Кодови словенских култура. -Београд. -2000. -№ 5. -С. 56-70.
- Баранов С. В. Саша Черный//Литература русского зарубежья (1920-1990)/под общ. ред. А. И. Смирновой. -М.: Флинта. -2006. -С. 220-232.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. -М.: Кругь, 2004. -560 с.
- Жиркова М. А. Саша Черный о детях и для детей. -СПб.: Лема, 2012. -100 с.
- Жиркова М. А. Человек и война в поэтическом цикле Саши Черного «Война» (Берлин, 1923)//Гуманитарные проблемы современности: человек и общество: коллективная монография/А. А. Авдеева, К. Р. Балабиев и др. -Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. -Кн. 20. -С. 42-69.
- Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. -Вып. 3. -С. 249-261 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2403 (15.08.2017).
- Комментарий//Черный Саша. Собр. соч.: в 5 т./сост., подгот. текста и коммент. А. С. Иванов. -М.: Эллис Лак, 2007. -Т. 2: Эмигрантский уезд. Стихотворения и поэмы. 1917-1932. -С. 443-486.
- Козина Т. Н. Пасхальный рассказ в русской словесности//Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. -2010. -№ 6. -С. 376-380.
- Николаева С. Ю. Пасхальный текст в русской литературе XIX века: монография. -М., Ярославль: Литера, 2004. -360 с.
- Паперный З. Смех Саши Черного//Новый мир. -1960. -№ 9. -С. 258-261.
- Проскурина Е. Н. Святочный и пасхальный сюжеты русской литературы в аспекте мотивного сравнения//Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы. -Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2006. -С. 54-75.
- Русский праздник: Праздники и обряды народного земледельческого календаря: иллюстрированная энциклопедия/. -СПб.: Искусство, 2001. -668 c.
- Краткая энциклопедия славянской мифологии/сост. Н. С. Шапарова. -М.: АСТ, Астрель, 2001. -624 с.