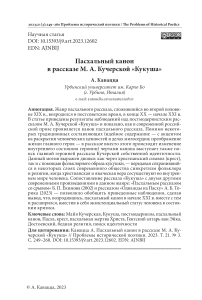Пасхальный канон в рассказе М. А. Кучерской «Кукуша»
Автор: Кавацца А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Жанр пасхального рассказа, сложившийся во второй половине XIX в., возродился в постсоветское время, в конце XX - начале XXI в. В статье приведены результаты наблюдений над постмодернистским рассказом М. А. Кучерской «Кукуша» и показано, как в современной российской прозе проявляется канон пасхального рассказа. Помимо некоторых традиционных составляющих (идейное содержание - с акцентом на раскрытии человеческих ценностей и делах милосердия; преображение жизни главного героя - в рассказе вместо этого происходит изменение внутреннего состояния героини) чертами канона выступает также поиск главной героиней рассказа Кучерской собственной идентичности. Данный мотив выражен двояко: как через христианский символ (крест), так и с помощью фольклорного образа кукушки, - передавая сохранившийся в некоторых слоях современного общества синкретизм фольклора и религии, когда христианская и языческая вера сосуществуют во внутреннем мире человека. Сопоставление рассказа «Кукуша» с двумя другими современными произведениями в данном жанре: «Пасхальным рассказом со срывом» Б. П. Екимова (2002) и рассказом «Однажды на Пасху» А. Б. Торика (2023) - позволило обобщить приведенные наблюдения, сделав вывод, что, возродившись, пасхальный канон в начале XXI в. вместе с тем и расширился, вместив в себя экзистенциальный статус человека в состоянии кризиса.
Майя кучерская, кукуша, постмодернизм, пасхальный канон, пасха, крест, пасхальная жертва христа, гентский алтарь ван эйка, достоевский, бедная религия, поиск идентичности
Короткий адрес: https://sciup.org/147241103
IDR: 147241103 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12602
Текст научной статьи Пасхальный канон в рассказе М. А. Кучерской «Кукуша»
Г лубинная укорененность в России предпочтения Воскресения Христова перед Рождеством привела к появлению в литературе жанра пасхального рассказа [Есаулов: 49]. К настоящему времени в русском литературоведении существует достаточно много исследований, посвященных как этапам становления жанра пасхального рассказа, так и анализу его форм, на материале произведений XIX и начала XX в. Наиболее авторитетными здесь представляются труды В. Н. Захарова (1994), О. Н. Калениченко (2000), И. А. Есаулова (2004), С. Ю. Николаевой (2004)1. Существуют также исследования, не в достаточной мере системные, о послереволюционном и советском времени, когда пасхальный рассказ едва ли не исчезает из русской прозы. Основные жанровые признаки пасхального рассказа изложены в монографии Т. Н. Козиной «Эволюция пасхального архетипа» [Козина, 2019]. Согласно проведенному исследовательницей обзору ряда литературных журналов («Новый мир», «Нева», «Октябрь»), можно говорить о возрождении данного жанра в конце XX — начале XXI в. (см.: [Козина, 2011: 160]).
В своей статье мне бы хотелось привести некоторые результаты наблюдений над рассказом «Кукуша» М. А. Кучерской, с целью показать, как произведения современной русской писательницы соотносятся с каноном пасхального рассказа, сложившимся во второй половине XIX в.
В постмодернистском произведении «Кукуша» (2008) действие происходит в дни Страстной седмицы, что является одним из жанрообразующих признаков пасхального рассказа. Пасхальный хронотоп важен и для понимания сложного сюжета — полного перипетий, монологов, фиксирующих поток сознания главной героини, указывающих на владение автором приемами постмодернизма (из которых особенно следует выделить такие, как фрагментарность текста и эмоциональность речи). Характерная для постмодернизма «бессюжетность» наблюдается уже в начале рассказа, где вместо последовательного воспроизведения событий подробно описы вается второс тепенный по значимости персонаж:
«Гриша выскочил в коридор из боковой комнаты. Резко, громко засмеялся. Своим новым специальным, настоенным на неполезных травах смехом.
Он стоял перед ней в пестром цветном платке, круглые красные маки, зеленые листья летели по черному фону, в ядовитооранжевой, какой-то нездешней рубахе, видимо, трусах. Трусов видно не было, рубашка свешивалась совсем низко, из-под нее торчали голые ноги и детские круглые коленки. Гриша был страшно весел и возбужден» 2 .
Прежде, чем восстановить развитие сюжетной линии, всю первую половину рассказа, автор разрывает действие, прерывает его размышлениями, воспоминаниями и мольбами персонажа, допуская не менее десяти случаев нарушения последовательности повествования. Синтаксис, состоящий из бессоюзных предложений, передает внутреннюю смятенность главной героини. Сама структура текста указывает на абсолютную погруженность персонажа в свой внутренний мир. Это состояние опустошенности героини становится еще более эмоционально убедительным, когда читатель осознáет, что речь идет не просто о молодой женщине, а о жене и матери двух детей.
Начало рассказа — приход Маши к своему бывшему однокласснику Грише. Согласно христианскому обычаю, главная героиня рассказа хочет встретить Пасху делами милосердия. Эти действия она направляет на своего бывшего одноклассника. Со школьных времен Маша помнит, кто когда-то рассказывал ей про Христа, кто тихо шел впереди нее в темноте крестного хода и «заботливо зажигал погасшую на апрельском ветру свечку» ( Кучерская : 74). В настоящее время Гриша — наркоман. Маша не может этого принять:
«Где он теперь? Где тот светлый юноша не в шутовской, не в женской, а в обычной, белой пасхальной рубашке? В какое подполье его упекли? Разве бывает преображение наоборот, Господи?» ( Кучерская : 74) .
И теперь его бывшая соученица, среди утомительной рутины дел жены и матери, поддерживает связь с Гришей не только в соответствии с традициями великопостных заповедей — она помогает Грише и в другое время, не только в предназначенные для этого дни Великого поста. Однако дел милосердия недостаточно, чтобы вывести главную героиню рассказа из состояния, более глубокого, чем просто усталость от семейной рутины, чтобы рассеять сомнения самой Маши в вере, чтобы устранить ее тоску и неудовлетворенность собой, которые мучают ее.
В рассказе Кучерской, с одной стороны, соблюдены существенные составляющие литературного канона пасхального рассказа и самой идеи Пасхи: события, о которых повествуется, происходят между Святой Великой субботой и понедельником Светлой седмицы; именно в канун Пасхи главная героиня рассказа, невзирая на обстоятельства, прикладывает все усилия, чтобы принести облегчение своему другу, оказавшемуся в затруднительном положении. С другой стороны, несмотря на требование изменений, в жизни Маши не происходит никакого «преображения жизни» и того, что на языке вероисповедания называют метанойя.
Даже разговор со старцем, пользующимся авторитетом среди православных верующих, не приносит ей особенной пользы. Напротив, старец разочаровывает Машу отсутствием «контакта»3. Насколько бесконечна предшествующая началу их короткого разговора тишина, подчеркнуто пространственным распределением наречия «бесконечно» по четырем строчкам, что усиливает дискомфорт ожидания:
«[Старец] поднимает глаза и смотрит на меня бес- ко не- чно уставшим взглядом» (Кучерская: 77).
Такое расположение текста, отсылающее к литературным приемам русского авангарда ХХ в., визуально резюмирует отсутствие ожидаемого контакта между героиней и старцем.
Разочарование от посещения монастыря в определенном смысле укрепляет в главной героине рассказа убеждение, что не следует искать путей спасения от экзистенциальных проблем через экстраординарные или сверхъестественные события. Эти размышления обращены не только к себе. Вспомним эпиграф, говорящий, что рассказ посвящен « всем самовольне живот свой скончавшим » или, можно предполагать, тем, кто, подобно Грише, может принять такое решение.
Неслучайно и после встречи со старцем в Маше не происходит заметного внутреннего преображения. Однако в ней появляется понимание: она интуитивно чувствует, что для христианина двуединство — вера во Христа и выполняемые дела — и есть та верная тропа, которая ведет к душевному покою, позволяет преодолевать трудные минуты и направлять свою помощь конкретно на таких людей, как Гриша. Поэтому Маша возвращается домой, к своим обычным занятиям, решив « честно нести свой крест », с упорством кукушки, которая в русском фольклоре символизирует женскую фигуру в образе жены, матери, сестры или дочери4.
Как сочетается образ русского фольклора с крестом? Упоминание в рассказе креста, несомненно, не лишено смысла. Страдание каждого отдельного христианина фактически должно быть связано с жертвой Христа, о которой прямо говорится в середине рассказа, когда упоминается «Гентский алтарь» ван Эйка. Он изображен на открытке, которую Маша вынужденно отдает Грише — тот, придя к ней в гости, замечает это изображение и упрашивает подарить ему. Что же представляет собой эта открытка? Почему она привлекла внимание такого человека, как Гриша? Чем была, как оказалось, дорога для Маши? Почему в рассказе представлен именно этот визуальный пример? Алтарь — место, где обновляется пасхальная жертва Христа. Из внутреннего монолога Маши мы знаем, что не раз эта картинка «утешала» ее, «отвлекала от ненужных мыслей» (Кучерская: 77). На что могут указывать текстуальные подтверждения важности для главной героини именно этого изображения? О чем должно сказать интертекстуальное цитирование именно этого визуального источника? То обстоятельство, что открытка с этим грандиозным религиозным сооружением много времени находилась вблизи главной героини рассказа, и именно это изображение просил отдать в качестве подарка практически антигерой данного произведения, — может указывать на не проявляемую явно, но скрыто присутствующую общность, единство внутреннего мира этих двух персонажей. Может быть, эта картинка напоминает обоим о тех временах, когда в юности они ходили вместе в храм и их вера не знала никаких колебаний.
Но существует и литературный аспект важности интертекстуальной отсылки именно к этому изображению, к этой открытке с Гентским алтарем. Совсем не случайно она, «в самодельной рамочке из картонки», «стояла в большой комнате, прислоняясь к черному собранию сочинений Достоевского» ( Кучерская : 74)5. В обществе своего времени Достоевский дал голос «маленькому человеку», не оставляя в стороне и грешников, помещая их в горизонт божественного «милосердия и правды», напоминая действиями и размышлениями таких персонажей как Родион Раскольников, Дмитрий Карамазов и Великий Грешник, что Благая Весть обращена прежде всего к ним, и Церковь должна заботиться и о них, должна делать все, чтобы и они могли услышать эту весть прощения и милосердия и, узнав ее, покаяться, а также иметь жизнь «с избытком» («Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» — Ин. 10:10). Осознание того, что ее интуиция верна, приходит к главной героине в пасхальный понедельник после неожиданного телефонного звонка от Гриши, который го ворит ей главн ые слова этого праздника: «Христос воскресе!»
Кучерская описывает героиню, проникнутую сущностью евангельского послания, но далекую от обрядов Православной Церкви и ее пастырей. В «Кукуше» отсутствие какого-либо упоминания о пасхальной литургии проявляет сложное современное отношение к православной христианской традиции и духовенству6. Это отношение к Церкви отражает позицию тех россиян, кто, по мысли М. Н. Эпштейна, исповедует «бедную, минимальную религию»7, в особенности тех верующих, кто вошел в православную Церковь после распада Советского Союза и полностью еще не воцерковился. «…В ней есть целый пласт людей, мучительно ищущих Бога и себя», — пишет Александр Правиков в молодежном Интернет-журнале МГУ «Татьянин день», добавляя, что «именно они — постоянные и заинтересованные читатели М. Кучерской8».
Упоминание кукушки9 отсылает нас к славянскому фольклору, к субстрату языческой веры, никогда полностью не поглощаемой христианством. Этот образ славянского фольклора пробретает ос обое значение в тексте рассказа, где лексема
«кукуша» звучит эпитетом и характеризует эмоциональное и психологическое состояние героини: она дает полное представление об ее занятости и том упорстве, с которым героиня выполняет все, что положено матери, жене, дочери. Уменьшительно-ласкательная форма лексемы «кукуша» придает этому слову положительный, в некотором смысле семейный оттенок в соответствии с ее фольклорной функцией10. Несколько загадочное сопоставление креста — христианского символа, с кукушкой — образом славянского фольклора, говорит о таком, возможно, сохранившемся в некоторых слоях общества синкретизме фольклора и религии, когда христианская и языческая вера сосуществуют во внутреннем мире человека.
В рассказе Кучерской канон пасхального рассказа, сложившийся во второй половине XIX в., еще действует. Помимо некоторых составляющих идейного содержания (как, например, акцент на человеческих ценностях и делах милосердия, преображение жизни главной героини — в данном случае вместо этого происходит изменение ее внутреннего состояния) чертой канона выступает также поиск персонажем собственной идентичности. Этот мотив преобладает над остальными жанровыми признаками и в других пасхальных рассказах современной литературы, присутствуя у подростка, перед которым стоит трудная задача не пойти по стопам пьющего отца, — в «Пасхальном рассказе со срывом» Б. П. Екимова11; у священника Владимира, которого после нескольких лет священнослужения настиг глубокий кризис и который решил оставить священничеств о, — в рассказе «Однажды на Пасху» А. Б. Торика12.
В этих двух рассказах пасхальный канон соблюден полностью: и в отношении пасхального хронотопа, и в наличии грешника — пьющего отца, который во время ссоры взрывает боевое устройство, — у Б. П. Екимова, и сироты Сони, пятнадцатилетней девочки, оказывающей помощь Владимиру после нападения на него, а позже просящей его окрестить ее и принять исповедь, — у А. Б. Торика. В начале XXI в. пасхальный рассказ дает повод современным писателям размышлять о человеке в свете Христова Воскресения и о его внутренних страданиях при поиске своей идентичности. В заключение — не только на основе рассказа Кучерской, но и на примере произведений Екимова и Торика — можно отметить, что пасхальный канон в начале XXI в. расширился, вместив в себя экзистенциальный статус человека в состоянии кризиса, охватывающего героя, который находится в поисках своей идентичности. Разрешение этого кризиса и соответствующее преображение жизни — зависит от значимости для человека христианской веры и личного отношения к ней.
The Easter Canon in the Story “Kukusha” by M. A Kucherskaya