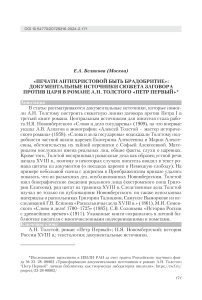"Печати антихристовой быть брадобритие": документальные источники сюжета заговора против царя в романе А.Н. Толстого "Петр Первый"
Автор: Беликова Е.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются документальные источники, которые помогли А.Н. Толстому построить сюжетную линию заговора против Петра I в третьей книге романа. Центральным источником для писателя стала работа Н.Я. Новомбергского «Слово и дело государевы» (1909), на что впервые указал А.В. Алпатов в монографии «Алексей Толстой - мастер исторического романа» (1958). «Слова и дела государевы» подсказали Толстому подробности частной жизни царевен Екатерины Алексеевны и Марии Алексеевны, обстоятельства их тайной переписки с Софьей Алексеевной. Материалом послужили имена реальных лиц, общие факты, слухи о царевнах. Кроме того, Толстой воспринимал разыскные дела как образец устной речи начала XVIII в., поэтому в некоторых случаях писатель вводил в текст романа цитаты из документов (о поездках царевен в Немецкую слободу). На примере небольшой сцены с допросом в Преображенском приказе удалось показать, что из разыскных дел, опубликованных Новомбергским, Толстой взял биографические сведения реального лица (костромского попа Григория Елисеева), ряд цитат из травника XVIII в. Следственные дела Толстой изучал не только по публикациям Новомбергского, он также использовал материалы о раскольниках Григории Талицком, Самуиле Выморкове из исследований Г.В. Есипова «Раскольничьи дела XVIII в.» (1861), М.И. Семевского «Слово и дело! 1700-1725» (1885), С.В. Соловьева «История России с древнейших времен» (1911). Указанные книги сохранились в личной библиотеке писателя с многочисленными подчеркиваниями и пометами.
А.н. толстой, роман "петр первый", н.я. новомбергский, история России xviii в, текстология, документальные источники
Короткий адрес: https://sciup.org/149145982
IDR: 149145982 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-171
Текст научной статьи "Печати антихристовой быть брадобритие": документальные источники сюжета заговора против царя в романе А.Н. Толстого "Петр Первый"
A.N. Tolstoy; “Peter the Great” novel; N.Y. Novombergsky; history of Russia in the 18th century; textology; documentary sources.
В третьей книге романа «Петр Первый» А.Н. Толстой поместил несколько эпизодов из жизни царевен Екатерины Алексеевны (1658–1718) и Марии Алексеевны (1660–1723) – дочерей Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской. В первой главе описывается их дом на Покровке, наполненный бабками-задворенками и певчими, которые развлекают царевен целыми днями, рассказывается о мечтах Екатерины найти клад и разбогатеть, есть отдельный эпизод о поездке Марии и Екатерины в Немецкую слободу с целью занять денег. В эту сюжетную линию Толстой ввел еще одного персонажа – распопу (священника, лишенного сана) Григория Елисеева, который прятался у царевен в «брошенной баньке» и помогал им организовать заговор против Петра I. В силу того, что роман остался незаконченным, мы не знаем, как писатель предполагал развить эту линию.
Данные события и герои кроме сюжета оказываются связаны еще и общим документальным источником. Основным материалом для писателя послужили следственные дела Преображенского приказа, опубликованные Н.Я. Новомбергским. На это впервые указал А.В. Алпатов в монографии «Алексей Толстой – мастер исторического романа» (см.: [Алпатов 1958, 169]).
При составлении реального комментария к роману «Петр Первый» в рамках подготовки Полного собрания сочинений А.Н. Толстого в ИМЛИ имени А.М. Горького РАН удалось не только использовать сведения Алпатова об источниках сюжетной линии царевен Екатерины, Марии и распопы Григория Елисеева, но и расширить их круг, в том числе за счет изучения личной библиотеки писателя, которая находится в отделе книжных фондов Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля. О некоторых итогах этой работы пойдет речь в нашей статье.
Книгу Новомбергского «Слово и дело государевы» (1909) Толстой, по собственному признанию, впервые прочитал в конце 1916 г., когда задумал произведение о петровском времени (см.: [Толстой 1982–1986, X, 150]). Алпатов установил, что сюжеты ранних исторических рассказов «Навождение» (1917) и «Первые террористы. Извлечение из дел Преображенского приказа» (1918) были подсказаны конкретными документами «Слова и дела»: допросами иеромонаха Никанора из Севского монастыря, доносом о готовящемся покушении на Петра I (см.: [Алпатов 1958, 17–21]). Труд Новомбергского в качестве источника Толстой использовал впоследствии при создании рассказов «День Петра» (1918) и «Повесть Смутного времени» (1922).
Алпатов считал, что писатель, приступая к работе над третьей книгой «Петра Первого», снова обратился к документам Преображенского приказа, но «пошел теперь несколько дальше, захватывая более широкий круг подобных следственных актов» [Алпатов 1958, 169]. По мнению исследователя, источником послужила другая работа Новомбергского: «в “Материалах по истории медицины в России” среди ряда дел о колдовстве и знахарстве, нашел Толстой и протоколы допроса попа Григория, и тексты самих тайных тетрадей, и данные об укрывательстве царевнами – сестрами Петра, и описание всех обстоятельств наездов их на Кукуй» [Алпатов 1958, 169]. При публикации записных книжек Толстого, связанных с романом «Петр Первый», Алпатов выявил в них цитаты из 11 документов следственных дел (см.: [Алпатов 1958, 172, 344–348, 352–353]).
Сложно согласиться с исследователем в том, что писатель использовал работу Новомбергского «Материалы по истории медицины в России»
(1907). Указанные Алпатовым документы были включены Новомберг-ским в «Слово и дело государевы» (1909). Более того, следственные дела над царевнами Екатериной и Марией располагались в самом начале тома, поэтому Толстой, хорошо знавший эту книгу, вряд ли мог их пропустить***. Также не совсем справедливо утверждение Алпатова, что материалы о царевнах и Григории Елисееве Толстой мог встретить только у Новомберг-ского (см.: [Алпатов 1958, 168]), у писателя был и другой источник.
С.М. Соловьев в книге «Истории России с древнейших времен» для характеристики социальных настроений начала XVIII в. пересказал и частично процитировал следственное дело 1701 г., которое велось по поводу царевен в Преображенском приказе. Описав отношение низших слоев общества к указам о немецком платье и брадобритии, историк начал следующий раздел («Недовольство наверху») с описания реакции царских особ на новые условия их жизни: «…наверху царевны и челядь их были также недовольны, только не нововведениями: они еще прежде Петра пошли по новой дороге и нашли ее очень приятною; царевны были недовольны тем, что содержание их было ограничено, что им нельзя было жить так, как жилось в правление царевны Софьи» [Соловьев 1911, стб. 1375]. Далее рассказывалось о поиске царевной Екатериной кладов и о поездке в Немецкую слободу.
«История России с древнейших времен» была одним из основных источников Толстого во время работы над романом (см.: [Акимова 2024]), в личной библиотеке писателя, которая хранится в отделе книжных фондов Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, есть шесть томов этого издания с многочисленными пометами (ГЛМ КП 53293/1544; 53293/1545; 53293/1546; 53293/1547; 53293/1548; 53293/1549). Возможно, выбранные Соловьевым документальные источники и последовательность, в которой они представлены, подсказали Толстому построение сюжета о царевнах и распопе Григории Елисееве. Обратившись к материалам Новомбергского, писатель нашел больше подробностей об образе жизни сестер Петра I и их окружении, которые использовал затем в романе (записные книжки к «Петру Первому» подтверждают, что он работал именно с документами из книги Новом-бергского (cм.: [Алпатов 1958, 344–348]).
На примере эпизодов из пятой главы третьей книги, где князь-кесарь Федор Ромодановский разбирает дело Григория Елисеева в Преображенском приказе, рассмотрим принципы работы Толстого с документальными источниками.
– В брошенной баньке, где скрывался распоп Гришка, на дворе у царевен Екатерины Алексеевны и Марьи Алексеевны, под полом найдена тетрадь в четверть листа, толщиной в полпальца, – читал по столбцам дьяк Чичерин таким однообразным голосом, будто сыпал сухие горошины на темя. – На тетради на первом листе написано: «Досмотр ко всякой мудрости». Да на первом же листе ниже писано: «Во имя отца и сына и святого духа... Есть трава именем зелезека, растет на падях и палях, собой мала, по сторонам девять листочков, наверху три цвета – червлен, багров, синь, та трава вельми сильна, – рвать ее, когда молодой месяц, столочь, сварить и пить трижды, – узришь при себе водных и воздушных демонов... (курсив наш – Е.Б.) [Толстой 1982–1986, VII, 711].
Выделенные курсивом имена и фразы имеют документальный источник – это «Слово и дело государевы» Новомбергского. Так, Толстой использовал биографические данные реального лица – костромского попа Григория Елисеева, который два раза подвергался следствию. Для данного эпизода материалом Толстому послужили обстоятельства второго ареста Григория Елисеева в 1700 г.: сначала его взяли под стражу за хранение «волшебных тетрадей» (т. е. содержащих колдовские заговоры), а затем осудили как участника тайного соглашения между царевнами Екатериной, Марией и Софьей против Петра I (см.: [Новомбергский 2004, 49]). Многие детали, зафиксированные в сыскном деле, Толстой включил в роман: например, Екатерина Алексеевна прятала расстриженного попа в «старой мыльне» из-за строгого караула.
Кроме допросов и челобитных из дела Григория Елисеева, для данного фрагмента Толстой использовал еще два разыскных дела, не связанных с распопой и царевнами. В некоторых следственных делах писателя могла заинтересовать лишь фамилия: так, в приведенном выше отрывке из романа использована фамилия подьячего Преображенского приказа Ивана Чичерина (в романе – Прохор Чичерин), который упоминается в одном из документов (см.: [Новомбергский 2004, 106]).
А запись «Досмотр ко всякой мудрости» и последующие описания целебных трав – это материалы следствия над орловским помещиком Дмитрием Умаевым Шамординым: «А по осмотру в той тетрадке писаных 5 листов <…> да на последнем листу 4 строки, а в них писано: “Выпись от книги глаголемой досмотр ко всякой мудрости, которой человек приобря-щет ею вещь, добро ему будет…”» [Новомбергский 2004, 75]. В розыскном деле Толстой выбрал понравившиеся названия, свойства трав и с небольшими сокращениями процитировал их в тексте романа: к траве зелезека присоединил свойства травы ахалин («собою мала, ростом в локоть, тонка, а видом синя на сторонах по 9-ти листочков, а на верху 4 цвета черлен, зелен, багров, синь» [Новомбергский 2004, 75]) и травы глава адамлева («а кто хочет дьявола видеть или еретика, тот корень освяти водою <…> а как пройдут те дни, и ты узришь при себе водных и воздушных демонов» [Новомбергский 2004, 77]). Обыграл писатель в романе реакцию Ромодановского на лечебные свойства некоторых трав: «“Трава ‘вахария’, цвет рудожелт, если человека смертно окормят – дай пить, скоро пронесет верхом и низом...” Полезная травка, – сказал князь-кесарь» [Толстой 1982–1986, VII, 711–712]. В данном случае источником стало описание травы одолен из «волшебных тетрадей» (см.: [Новомбергский 2004, 77]).
Любопытно, что Дмитрия Шамордина обвинили в «недопустимых речах против царя», которые якобы содержались в найденных у него «тетрадях», но на самом деле они представляли собой обычный травник. Об этом случае упоминает А.Б. Ипполитова в монографии «Рукописные травники XVII–XVIII вв.» как о типичной ошибке того времени: «представляя собой рукописный текст, организованный по главкам, травники внешним своим видом очень напоминают сборники заговоров – т. н. “волшебных писем”, пользование которыми резко осуждалось властью <…>. В 1703 г. из-за подобной путаницы было возбуждено следственное дело над орловским помещиком Дмитрием Умаевым Шамординым и его дворовым Анфиногеном Никоновым» [Ипполитова 2008, 88]. Слуга Шамордина был неграмотным, поэтому, не разобравшись, какие тетради хранит его хозяин, он донес на помещика. При расследовании все записи из тетради были скопированы.
Для развития сюжета заговора против Петра I Толстому необходимы были другие источники. В романе самыми «опасными» оказываются следующие записи, найденные у героя Григория Елисеева:
В Кириллиной книге сказано: придет льстец и соблазнит. Знамения пришествия его: трава никоциана, сиречь табак, повелят жечь ее и дым глотать, и тереть в порошок, и нюхать, и вместо пения псалмов будут непрестанно тот порошок нюхать и чихать. Знамение другое: брадобритие...» [Толстой 1982–1986, VII, 711–712].
Подобные фразы не встречаются в тех следственных делах у Новом-бергского, с которыми работал Толстой и на которые указал Алпатов. Нам кажется, что в данном случае источником для писателя стала работа Соловьева. Тем более, что в книге историка обзор настроений части духовенства, которое воспринимало Петра I как антихриста, предшествовало рассказу о жизни царевен Екатерины и Марии. В соответствующем фрагменте книги Соловьева Толстой оставил подчеркивания и пометы на полях (ГЛМ КП 53293/1554).
Описывая растущее недовольство противников царя после указов о брадобритии, обязательной носке немецкого платья, Соловьев пересказывал дело о дьяке Григории Талицком, который в 1700 г. под пыткой признался, «что составил письмо, будто настало ныне последнее время и антихрист в мир пришел, т. е. государь…» [Соловьев 1911, стлб. 1371]. Толстой подчеркнул здесь имя Григория Талицкого (ГЛМ КП 53293/1554). Фразы в романе «придет льстец и соблазнит», «знамения пришествия его <…> табак <…> брадобритие», возможно, были подсказаны Толстому следующим отрывком из Соловьева: «Талицкого казнили. Стефан Яворский написал книгу против его учения под заглавием “Знамения пришествия антихристова”, но, как обыкновенно бывает, книгу читали те, которые и без нее не верили, что Петр – антихрист, а в низших слоях народа книгу Стефана не читали, и мысль об антихристе не умирала в людях, страдавших боязнию нового. В 1704 году в Симонове монастыре хлебенный старец Захария говорил: “Талицкий ныне мученик свят; вот ныне затеяли бороды и усы брить, а прежде сего этого не бывало; какое это доброе? Вот ныне проклятый табак пьют!”» [Соловьев 1911, стб. 1372]. В этом же абзаце историк приводил диалог между священником и дьячком в Олонецкой губернии: «Про государя говорил: “Какой он нам, христианам, государь? Он не государь, латыш: поста никогда не имеет; он льстец, антихрист, рожден от нечистой девицы”» (курсив наш – Е.Б.) [Соловьев 1911, стб. 1372]. Последние фразы Толстой подчеркнул и оставил помету на полях (ГЛМ КП 53293/1554).
Приведенные выше сведения Соловьев брал из архива Тайной канцелярии, но также ссылался на работу Г.В. Есипова «Раскольничьи дела XVIII в.» (1861), где в разделе «Последователи учения об антихристе» изложены материалы следствия над Григорием Талицким. Эта книга была в личной библиотеке Толстого (ГЛМ КП 53293/592). Видимо, для образа Григория Елисеева в романе Толстой взял именно отсюда некоторые подробности биографии Талицкого. Например, в документах упоминалось, что книготорговец Талицкий жил в Москве на Кисловке (см.: [Есипов 1861, 60]), – в романе Григорий Елисеев признавался, что купил свою тетрадь в этой же слободе. Характеристика, которую дает Ромодановский подсудимому («Распоп человек прыткий и тертый, про эту тетрадь я давно знаю, он с ней пол-Москвы обегал» [Толстой 1982–1986, VII, 712]), возможно, была подсказана как материалами следствия, так и общими замечаниям Есипова о том, что раскольничьи тетрадки Григория Талицкого способствовали распространению идеи о Петре I как об антихристе: «в тетрадках: 1) О пришествии в мир антихриста и о летех от создания мира до скончания света , 2) Врата – изложил сделанные им разыскания, доказывающие с исчислением годов, что Петр Первый как осьмой царь – антихрист и что пришло последнее врем я. Окончив свои сочинения в 1700 г., он деятельно начал читать их своим знакомым, раздавал копии, продавал их <…>. Успех сочинения подал ему мысль напечатать и продавать его, а кроме того “бросать в народ” для возмущения против Петра» [Есипов 1861, 5].
В пояснении нуждается «Кириллина книга», которая упоминается Толстым. В данном случае речь идет о Кирилловой (Кириллиной) книге – полемическом сборнике, составленным Стефаном Зизанией в 1596 г. (в 1644 г. издан на московском Печатном дворе). Книга получила название по первому разделу – «Казанье св. Кирилла патриарха Иерусалимского о антихристе», в XVII–XVIII вв. была распространена среди староверов.
В рассказе 1918 г. «День Петра» Толстой уже упоминал в схожих обстоятельствах этот сборник, когда в Тайной канцелярии царь допрашивал старца Варлаама: «Старинные книги читаете, двуперстным крестом спастись хотите? Что же в книгах у вас написано? <…> И Варлаам <…> начал говорить о том, что в книге Кирилла сказано, что “во имя отца Симона
Петра имеет быть гордый князь мира сего – антихрист”» [Толстой 1982– 1986, III, 51].
Для рассказа и романа источником Толстому могла послужить работа М.И. Семевского «Слово и дело! 1700–1725. Очерки и рассказы из русской истории XVIII в.» (1885), которая сохранилась в личной библиотеке писателя с многочисленными пометами (ГЛМ КП 53293/1490). Вероятно, очерк «Самуил Выморков, проповедник явления антихриста» подсказал Толстому идею с упоминанием сборника, именно в ней молодой монах находил доказательства пришествия антихриста: «Выморков спешил найти утешение в книгах; стал он зачитываться известной книгой Кирилла об антихристе и знаках его (М., 1644 г.), и введенный ею в новое сомнение, вновь перестал ходить в церковь. А нашел он в той книге такое выражение: “во имя Симона Петра имеет быти гордый князь мира сего антихрист”. Такое предсказание для него, уже “смятенного духом и устрашеннаго в своей совести”, казалось прямым указанием, что царствие антихриста, в лице государя Петра I, уже осуществилось» [Семевский 1885, 132].
Оставил пометы Толстой рядом со следующими фрагментами в работе Семевского (ГЛМ КП 53293/1490): «Нет, тот антихрист, что ныне в Москве, что царем прозывается <…> да и потому он – антихрист, что владеет сам один и патриарха нет, а то его печать, что бороды бреют и у драгунов роскаты» [Семевский 1885, 131]; «Самуил <…> вменял “печати антихристовой быть брадобритие” и много и долго еще писал, а все о том же возросшем в лице императора Петра антихристе» [Семевский 1885, 142].
Толстой подчеркнул фразы, которые Выморков услышал от московских монахов об изменениях в церковной жизни после реформ Петра I: «многие пьянствуют и мясо сплошь едят, и вместо книг в кельях и церквах табакерки в руках держат, и непрестанно прошек нюхают <…>. Во всем бо государстве часовни разорили, иконы святыя из них безчестно вывесть велели, а где часовенныя каменныя стены остались, тамо, вместо молитв и псалмопения, и канонов, табаком и прошком торговать и бороды брить попустили !» (курсив наш – Е.Б .) [Семевский 1885, 160–161]. Эти выражения, вероятно, подсказали писателю «знамения пришествия» антихриста, обозначенные в тетрадке Григория Елисеева: «тереть в порошок, и нюхать, и вместо пения псалмов будут непрестанно тот порошок нюхать и чихать» [Толстой 1982–1986, VII, 711–712].
Таким образом, изучение источников сюжета заговора против Петра I в третьей книге романа позволило нам сделать следующие выводы. Центральным источником для писателя стала работа Новомбергского «Слово и дело государевы», на что впервые указал Алпатов. Но следственные дела Преображенского приказа Толстой изучал не только по публикациям Новомбергского. На примере небольшой сцены с «волшебной тетрадью» распопы Григория Елисеева удалось показать, что кроме сведений об участниках заговора и цитат из трех разыскных дел, опубликованных Новомбергским, Толстой также использовал материалы из исследований Есипова «Раскольничьи дела XVIII в.», Семевского «Слово и дело! 1700– 1725», Соловьева «История России с древнейших времен». Указанные книги сохранились в личной библиотеке писателя с многочисленными подчеркиваниями и пометами.
Список литературы "Печати антихристовой быть брадобритие": документальные источники сюжета заговора против царя в романе А.Н. Толстого "Петр Первый"
- Акимова А.С. "История России с древнейших времен" С.М. Соловьева как исторический источник романа "Петр Первый" // Алексей Толстой: диалоги со временем. Вып. 4 / отв. ред. Г.Н. Воронцова, сост. А.С. Акимова. М.: ИМЛИ РАН, 2024. С. 234-247.
- Алпатов А.В. Алексей Толстой - мастер исторического романа. М.: Советский писатель, 1958. 356 с.
- Есипов Г.В. Раскольничьи дела XVIII столетия. Т. I. СПб.: Товарищество "Общественная польза", 1861. 657 с.
- Ипполитова А.Б. Русские рукописные травники XVII-XVIII веков: Исследование фольклора и этноботаники. М.: Индрик, 2008. 512 с. EDN: QLRHHL
- Новомбергский Н.Я. Слово и дело государевы: (Материалы): в 2 т. Т. 2. М.: Языки славянской культуры, 2004. 568 с. (Репринтное воспроизведение издания: Слово и Дело Государевы: (Материалы). Т. 2. Томск: [Б. и.], 1909).
- Семевский М.И. Слово и дело 1700-1725. Очерки и рассказы из русской истории XVIII в. СПб.: Типография В.С. Балашева, 1885. 356 с.
- Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 6 кн. Кн. 3. СПб.: Товарищество "Общественная Польза", [1911]. 1580 стб.
- Толстой А.Н. Собрание сочинений: в 10 т. М.: Художественная литература, 1982-1986.