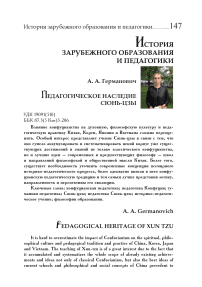Педагогическое наследие Сюнь-Цзы
Автор: Германович Анастасия Андреевна
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: История зарубежного образования и педагогики
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
Влияние конфуцианства на духовную, философскую культуру и педагогическую практику Китая, Кореи, Японии и Вьетнама сложно переоценить. Особый интерес представляет учение Сюнь-цзы в связи с тем, что оно сумело аккумулировать и систематизировать некий корпус уже существующих достижений и знаний не только классического конфуцианства, но и лучшие идеи - современных и предшествующих философу - школ и направлений философской и общественной мысли Китая. Более того, существует необходимость уточнить современные концепции всемирного историко-педагогического процесса, более адекватно вписав в него конфуцианскую педагогическую традицию и тем самым лучше представив логику, направленность и перспективы его эволюции.
Конфуцианская педагогика, педагогика конфуция, гуманная педагогика, сюнь-цзы, педагогика сюнь-цзы, историко-педагогическое учение, философия образования
Короткий адрес: https://sciup.org/140205347
IDR: 140205347 | УДК: 19091(510)
Текст научной статьи Педагогическое наследие Сюнь-Цзы
Имя Сюнь-цзы занимает выдающееся место в истории китайской философской, общественно-политической и педагогической мысли Китая. Его учение завершает ранний (классический) этап развития конфуцианской мысли (V в. до н.э. – III в. до н.э.). Одновременно с этим стоит отметить, что влияние конфуцианства на духовную, философскую культуру и педагогическую практику Китая, Кореи, Японии и Вьетнама сложно переоценить. По сути, конфуцианство очертило нравственные и духовные рамки развития целого региона на протяжении нескольких тысячелетий. Особый интерес учение Сюнь-цзы представляет в связи с тем, что оно сумело аккумулировать и систематизировать уже существующий некий корпус достижений и знаний не только классического конфуцианства, но и лучшие идеи современных и предшествующих философу школ и направлений философской и общественной мысли Китая. Сюнь-цзы выступает как сознательный критик и синтезатор философских идей предшествующих и современных ему школ древнекитайской философии, прежде всего, противоборствующих – конфуцианства (с его акцентом на добродетели и самосовершенствовании личности) и легизма
(с верой в основную ограничивающую функцию законов и ритуала). В основе трактата Сюнь-цзы лежит мысль, что истина – это всесторонность «Пути» («Дао»), а различные школы имеют односторонние взгляды на одни и те же явления. Поэтому нужен общий «Путь», соединяющий все хорошее из разных подходов. Важно также отметить, что трактат Сюнь-цзы – это первая авторская философская система взглядов Древнего Китая.
Сюнь-цзы, с одной стороны, критикует всех своих предшественников, представителей других школ – Мо-цзы, Хуэй Ши, Шэнь Дао (легиста), Чжуан-цзы, и даже других конфуцианцев, например, Мэн-цзы. С другой стороны, Сюнь-цзы многое берет и у других течений и школ. Поэтому, по мнению крупнейшего отечественного востоковеда В. Ф. Феоктистова, Сюнь-цзы – это своеобразный «китайский Аристотель», который попытался дать критику и, с другой стороны, включить в свою систему идеи других древнекитайских философских школ1.
Основной текст мыслителя, анализу которого посвящена данная работа Сюнь-цзы 9^" «^Трактат] Учителя Сюня». Он состоит из 32 глав, 23 из которых написаны самим Сюнь-цзы,
3 – его учениками при жизни, и 6 глав – учениками, скорее всего, после его смерти. Интересно, что в отличие от текстов Лунь юй и Мэн-цзы, которые представляют собой беседы учителя с учениками или представителей власти с учителем, трактат Сюнь-цзы написан в виде свода теоретических текстов вокруг какой-либо определенной темы1. Для изучения педагогических воззрений мыслителя особый интерес представляют главы «Наставления к учебе», «Самоусовершенствование», «Не пренебрегать ритуалом», «О ритуале» и «О злой природе человека». Безусловно, другие труды автора также интересны в той степени, в которой они дополняют и иллюстрируют его педагогические идеи.
В российском востоковедении изучением наследия Сунь-цзы, прежде всего, занимался В. Ф. Феоктистов, который не только перевел на русский язык большую часть работ философа, но также во многом обогатил философское понимание и интерпретацию основных категорий философского знания древнекитайской философии. Его работы способствовали более глубокому пониманию национальных особенностей философской мысли Китая, в которой понятийно-категориальный аппарат не имеет аналогов в западной философской культуре. В ходе свой научной карьеры В. Ф. Феоктистов опубликовал множество работ по творческому наследию Сюнь-цзы, и в итоге в 2005 г. вышла его крупная монография, посвященная древнекитайскому философу «Философские трактаты Сюнь-цзы»2.
Также для понимания различных категорий древнекитайской философии можно обратиться к курсу лекций по древнекитайской философии С. Ю. Рыкова3, которые помогают вписать философские взгляды Сунь-цзы в контекст эпохи и сравнить их с другими школами и течениями конфуцианства. Более того, обращение к данной работе позволяет проследить эволюцию философских и, как следствие, педагогических воззрений классического конфуцианства.
В отечественном востоковедении обращали внимание на наследие Сюнь-цзы следующие авторы: А. А. Петров в «Очерке философии Китая»4, Ян Хиншун в статье «Из истории китайской философии»5, Ф. С. Быков в работе «Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае»6, Л. С. Переломов7 и Л. С. Васильев8 и др.
Однако стоит отметить, что в вышеперечисленных работах в основном уделяется внимание общественно-политическим, экономическим, философским и этическим взглядам автора. И в российской литературе практи- чески полностью отсутствует интерес к педагогическим идеям Сюнь-цзы, хотя конфуцианство во многом пос- троено на идеях воспитания идеальной личности «благородного мужа», и обучения (самообучения) длиною в жизнь. Поэтому видится необхо- димость изучения педагогических взглядов Сюнь-цзы и определении их роли в конфуцианской педагогической традиции.
Как писалось выше, Сюнь-цзы, с одной стороны, критикует всех своих предшественников, представителей других школ – Мо-цзы, Хуэй Ши, Шэнь Дао (легиста), Чжуан-цзы, и даже других конфуцианцев, напри- мер, Мэн-цзы. С другой стороны,
Сюнь-цзы многое заимствует у дру-
Так, в его трак-
гих течений и школ.
татах можно найти заимствованную из моизма теорию первоначального состояния человечества, принципы «почитания достойных», «умеренности в расходах» и некоторые другие, а также конкретное наполнение теории «исправления имен». Из даосизма и янгизма он заимствует элементы даосской психологии, представления о «Небе». И особенно он интересуется идеями легизма, например, идеей применения «законов», «наград и наказаний» и др.1
В связи с подобным заимствованием и соединением различных идей в доктрине Сюнь-цзы, некоторые исследователи называли его сочувствующим легизму эклектиком (А. Масперо, Х. Г. Крил, Ч. Фицжералд, Го Мо-жо, Ф. С. Быков и др.). Другие же ученые относили его к представителям классического раннего конфуцианства (А. Форке, Г. Даббс, Е. Ценкер, Фэн Ю-лань, В. Ф. Феоктистов). При этом не стоит забывать, что сам Сюнь-цзы писал, что «Путь» Конфуция является самым верным, и сам себя причислял к подлинным конфуцианцам2.
В связи с заимствованиями Сюнь-цзы философских идей других мыслителей и течений возникает вопрос, насколько Сюнь-цзы – конфуцианец? На самом деле, Сюнь-цзы конфуцианец в главном. Он пишет, что «Путь» древних – правильный «путь», и никакие изменения во времени не меняют древних устоев. В этом отношении Сюнь-цзы остается полностью верен духу конфуцианства и противопоставляет свое учение легизму, которое обращало свой взор, прежде всего, на настоящее.
Как уже говорилось, система взглядов Сюнь-цзы, безусловно, занимает особое место в развитии философской, общественно-политической и педагогической мысли Китая. Соединив в себе достижения конфуцианства и отдельные идеи легизма, Сюнь-цзы создал во многом оригинальное и адекватное времени учение, отличающееся прагматичностью своей интерпретации идеальной личности и способов достижения этого идеала.
В чем же заключается характер и особенности педагогических воззрений Сюнь-цзы?
В первую очередь, необходимо рассмотреть конфуцианский идеал личности «цзюнь цзы» или «благородного мужа», который также одновременно является основным идеалом и целью обучения в классическом конфуцианстве в понимании Сюнь-цзы. Подобно Конфуцию и Мэн-цзы, в трактатах Сюнь-цзы «благородный муж» практически всегда встречается как антипод «сяо-жень» (низкий человек, человек лишенный добродетели). И неудивительно, ведь образ «сяо жень», как воплощение всего низкого и отвратительного в человеке, несет не меньшую воспитательную функцию, чем подробное описание идеала. Не случайно, в учениях трех конфуцианских философов все время упоминается эта категория, параллельно с «цзюнь цзы». Базовая интерпретация концепции «благородного мужа» Сюнь цзы во многом схожа с классической интерпретацией Конфуция и Мэн-цзы. Согласно Сюнь-цзы, «благородный муж» или, в переводе В. Ф. Феоктистова, «совершенный человек» олицетворяет совершенную с точки зрения конфуцианской этики личность, которая обладает определенным набором добродетелей: «жень» (гуманность»); «дэ» (добродетель, благоразумие, нравственность); «и»
(чувство долга, правильное поведение); «ли» (соблюдение этикета, церемониала); «чжи» («истинное знание, мудрость»); «и» (справедливость), (скромность); «сяо» (почтительность к старшим); «ти» (почтительность к старшему брату); «жень» (человеколюбие); «синь» (искренность, умение доверять, правдивость); «юн» (храбрость, мужество); «чжун» (преданность престолу, лояльность), (осторожность), (умение сдерживать свои желания), (отвращение к кле-ветникам)1. Однако при более подробном сравнении учения Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы становится заметным гораздо меньший акцент последнего автора на некоторых из основополагающих конфуцианских добродетелях «у-чан» (или пяти постоянных добродетелях): «жень» и «и», (гуманность и справедливость). На фоне детальной разработки других категорий «ли» и «чжи» (выполнение церемоний и разумность), которые также являются главными добродетелями благородного мужа. Одной из возможных причин некого невнимания Сюнь-цзы к категориям «жэнь» и «и» может быть его полное согласие относительно их смыслового наполнения с великими учителями прошлого и нежелание повторять уже написанное ранее. А выделение «ли» и «чжи» в угол своего учения может быть характеризует желание автора донести до читателей свои наиболее новаторские и ценные идеи. Однако может быть и иная причина. Возможно, Сюнь-цзы выше прочего ценил ритуал как необходимый воспитательный инструмент постоянного самосовершенствования, с одной стороны, и умение правильно выполнять его, как необходимую добродетель, имманентно присущую «цзюнь цзы».
Другой важной спецификой педагогических взглядов Сюнь-цзы было особое внимание к ритуалу и законам как к важным инструментам воспитания личности. Как пишет В. Ф. Феоктистов, «воспитание человека в духе соблюдения норм ритуала и чувства долга» было средством, позволяющим преодолеть врожденные «злые» качества человека:
«Человек по своей природе зол, его добродетельность порождается (практической) деятельностью… Необходимо воздействие на человека с помощью воспитания и закона, нужно заставить его соблюдать нормы ритуала и выполнять свой долг, тогда у человека появится уступчивость и он станет культурным, что приведет к порядку… также как тупой кусок металла нуждается в ковке и точке и только после этого он сможет стать острым, так и человек, который по своей природе зол, нуждается в воспитании и законах и только после этого сможет встать на правильный путь; на него необходимо воздействие норм ритуала и чувства долга, только тогда он сможет соблюдать законы» (Сюнь-цзы. «О злой природе человека»)1.
У Конфуция же под ритуалом в основном понимались этические нормы отношений между людьми как в семье, так и в государстве, выраженные в строгом разграничении положения старших и младших, мужчин и женщин, знатных и незнатных по происхождению. И все эти отношения были изложены в книге «И ли» (Церемонии и обряды). Ритуал у Конфуция был необходимым воспитательным инструментом самосовершенствования и обеспечения порядка в стране2. Однако Конфуций подчеркивал внутреннее содержание соблюдения ритуала: необходимость обладать, прежде всего, человеколюбием и чувством долга, а потом уже можно соблюдать ритуал:
«…Если человек не обладает человеколюбием, – к чему тогда говорить о ритуале и музыке?» (Лунь юй. 4, 44)3.
У Сюнь-цзы же учение о ритуале в гораздо большей степени выделяет всеобщий характер применения ритуала в качестве воспитательного инструмента, начиная от индивида на пути своего самосовершенствования, заканчивая принципами политической и социальной организации общества. При этом у Сюнь-цзы методы воспитания и педагогические подходы также отличаются в зависимости от целей и объекта воспитания. Так же, как и Конфуций, он полагал, что воспитание различных категорий «благород- ных мужей» «цзюнь цзы» и «малых людей» «сяо жень» принципиально отличается, как и их имманентные свойства природы «син» и врожденные знания «чжи» неодинаковы. Если Конфуций считал, что природу человека можно лишь улучшить, а не принципиально изменить, то Сюнь-цзы пошел дальше, и насилие над природой человека он не только не исключает, а приветствует как единственный способ «выправления» врожденных свойств. Сюнь-цзы очень высоко ставит возможности воспитания, веря в то, что все хорошее в человеке – это результат воспитания, а изначальная природа человека зла1
В принципе, признавая возможность любого человека, независимо от социального положения, достичь идеала, Сюнь-цзы вводит понятия «кэ» и «нэн» – «возможностью» стать совершенномудрым, которой обладают все, и «способностью» стать им, которая зависит от «выбора» человека. В данном вопросе он придерживается классической конфуцианской педагогической традиции – активное участие обучающегося в ходе создания и приобретения нового знания и нового себя. Сюнь цзы, подобно Конфуцию и Мэн-цзы, выделяет необходимость волевых усилий и сознательности субъекта обучения. В данном смысле именно сознательность ученика открывала широчай- шие возможности воспитательного воздействия на природу человека. То есть для того, чтобы «исправить свою злую природу», необходимо применение ритуала чувства долга, с одной стороны, и субъективное желание перевоспитываться – с другой.
Однако вышеперечисленные рекомендации к воспитанию идеальной личности касаются, прежде всего, того, кто «готов» стать совершенномудрым, у кого есть к этому не только «возможность», но и «способности». А стремится к самосовершенствованию лишь «благородный муж». А что же делать с простым народом, который не желает заниматься самосовершенствованием и не выполняет должным образом ритуалов? В данном контексте проявляется ограниченность воспитательного механизма одного только ритуала. Чем же должен быть дополнен «ритуал» по Сюнь-цзы? Он должен быть дополнен «фа» (законом). Данную идею Сюнь-цзы, безусловно, позаимствовал из учения легистов :
«… ^Положение] людей от ученого и выше нужно регулировать с помощью ритуала и музыки; ^если же говорить о] простых людях, народе, то управлять им нужно с помощью законов…» (Сюнь-цзы. «Обогащение государства»)3.
Таким образом, согласно Сюнь-цзы, образованные и знатные люди должны воздействовать на свою злую природу сознательно, прибегая к «ритуалу» и «чувству долга», а необразованных следует «учить с помощью законов». В данном смысле также проявляется различный характер воспитательных механизмов в зависимости от объекта обучения: перенос акцента на ученика и его самостоятельное усилие при воспитании ученых и вышестоящих слоев населения, и более принудительный характер воспитания простых людей.
Обращаясь к сущности процесса обучения в понимании Сюнь-цзы, также заметны небольшие отличия от его предшественников. По Конфуцию, обучение – это не просто некий процесс передачи знаний из поколения в поколения, от индивида к индивиду. Обучение – это, скорее, указание обучающимся некого пути самосовершенствования. Более того, это указание больше похоже на вдохновение, которое дарит учитель своим ученикам в виде подсказок для того, чтобы они вступили на нужный путь познания и достижения идеала. Для Сюнь-цзы обучение не должно прекращаться, человек должен учиться на протяжении всей жизни: «…Се-рьезно накапливать знания, быть упорным и долго (учиться) – только так можно стать образованным человеком! Учиться надо всю жизнь, до последнего дыхания!» (Сюнь-цзы. «Наставления к учебе»)1.
Важным инструментом обучения являются личные встречи с учителем, при этом автором неоднократно подчеркивается необходимость подражания мудрому учителю и совершенномудрым людям. Конечно, Сюнь-цзы говорил, подобно предшественникам, о необходимости заучивания канонов конфуцианства («Ши цзин», «Шу цзин», «Юэ цзин») и чтении обрядовых книг («Ши ли», «И ли», «Чжоу ли»), но признавал также необходимость понимания современности, в чем механическое заучивание классических книг не могло помочь: «В учении нет более удобного способа, чем личные встречи с учителем, поскольку в обрядовых книгах и «Юэ цзин» содержатся лишь основные, общие законы и ничего не говорится конкретно, в «Ши цзин» и «Шу цзин» приводятся лишь сведения о прошлых делах и нет ничего, что относилось бы к действительности данного времени… Если же подражать мудрому учителю и учиться тому, что говорят совершенные люди, сможешь возвыситься и постичь смысл всех современных дел… Нет более простого пути в овладении знаниями, чем (искренняя) любовь к мудрому учителю… Соблюдение норм высокого ритуала стоит на втором месте…»2.
Таким образом, Сюнь-цзы признает необходимость не только получения книжного знания, а также необходимость адекватного применения знания на практике, в чем может помочь учитель или совершенномудрый образец. В этом проявляется деятельностный характер конфуцианского знания. В этой связи роль учителя или наставника в учении Сюнь-цзы во многом более значительна, чем у Конфуция. Ведь учитель Конфуция дарит своим ученикам вдохновение в виде подсказок для того, чтобы они вступили на нужный путь познания и достижения идеала. Он не задает вопросы, а отвечает на поставленные.
В современном мире на фоне развивающихся процессов глобализации усиливается тенденция самоопределения и диалога различных культур и цивилизаций, религий и идеологий, традиций и учений, по-разному ставящих и решающих самые фундаментальные проблемы человеческого бытия. К их числу относятся вопросы, которые связаны с пониманием идеалов и механизмов образования, воспитания, обучения подрастающих поколений, поиском целей, путей и средств педагогической деятельности.
Одной из самых мощных и влиятельных традиций в истории человеческого общества, продолжающей интенсивно развиваться и сегодня, является педагогическая традиция конфуцианства. Конфуцианство – это не только оригинальное религиозно-философско-этико-политическое учение, это также самобытное педагогическое учение, вот уже на протяжении двух с половиной тысячелетий оказывающее огромное влияние на теорию и практику воспитания и обучения народов культурно-политического ареала Дальневосточной цивилизации. Как отмечалось ранее, Сюнь-цзы выступает как критик и синтезатор философских предшествующих и современных ему эпох, а его трактат
– это, по всей строгости, первая авторская философская система взглядов древнекитайской философии. Таким образом, на примере трактата Сюнь-цзы философия в древнем Китае добралась до верха своей теоретичности.
Актуальность обращения к истории становления педагогики конфуцианства в эпоху раннего конфуцианства, и непосредственно к Сюнь-цзы, когда конфуцианская культурная традиция достигла некой новой ступени, связана с необходимостью уточнить современные концепции всемирного историко-педагогического процесса, более адекватно вписав в него конфуцианскую педагогическую традицию и тем самым лучше представить логику, направленность и перспективы его эволюции. Более того, существует потребность системно рассмотреть тот идейный фундамент, который лег в основу конфуцианской педагогики и во многом определил все ее последующее развитие, а также ее роль и место в истории и современном положении успешно развивающихся сегодня стран конфуцианского ареала.
И, наконец, включение конфуцианской культурно-педагогической традиции в диалог российской и западной культурно-педагогических традиций может создать дополнительные условия для более глубокого понимания характера и особенностей различных педагогических традиций и для перспектив их взаимообогащения.
Имя Сюнь-цзы занимает выдающееся место в истории китайской философской, общественно-политической и педагогической мысли Китая. Его учение завершает ранний, класси- ческий этап развития конфуцианской мысли, а его трактат – первая авторская философская система взглядов древнекитайской философии.
Соединив в себе достижения конфуцианства и отдельные идеи легизма, Сюнь-цзы создал во многом оригинальное и адекватное времени учение, педагогические воззрения которого можно охарактеризовать следующим образом:
– Во-первых, учение Сюнь-цзы заимствовало идеи других философских школ древнего Китая и, прежде всего, идею применения законов для регулирования общественных отношений из легизма. Однако по своему понятийному аппарату и духу оно по-прежнему оставалось глубоко конфуцианским с его поисками идеала в древности, идеями самосовершенствования, применения ритуала, музыки и др.
– Во-вторых, учение Сюнь-цзы о «злой природе» человека (в котором он полемизирует с Мэн-цзы) – это величайшее достижение философа, которое обогатило древнекитайскую философскую мысль.
– В-третьих, важной спецификой педагогических взглядов Сюнь-цзы было особое внимание к ритуалу и законам как к важным инструментам воспитания личности. У Сюнь-цзы учение о ритуале в гораздо большей степени, чем у Конфуция и Мэн-цзы, выделяет всеобщий характер применения ритуала в качестве воспитательного инструмента «исправления злой природы» человека. Но воспитательные методы исправления природы человека неодинаковы: образованные и знатные люди должны воздействовать на свою злую природу сознательно, прибегая к «ритуалу» и «чувству долга», а необразованных следует «учить с помощью законов».
– В четвертых, Сюнь-цзы очень высоко ставит возможности воспитания, веря в то, что все хорошее в человеке – это результат воспитания, а изначальная природа человека зла. И он верит, что природу человека можно полностью исправить с помощью воспитания, в итоге достигнув совершенства.
И, наконец, Сюнь-цзы признает необходимость не только получения книжного знания, а также необходимость адекватного применения теоретического знания на практике, в чем может помочь учитель или совершенномудрый образец. В этом проявляется деятельностный характер конфуцианского знания. В этой связи роль учителя или наставника в учении Сюнь-цзы во многом более значительна, чем у Конфуция.
Список литературы Педагогическое наследие Сюнь-Цзы
- Астафьева, Е. Н. Восхождение к истории педагогики/Е. Н. Астафьева//Academia: Педагогический журнал Подмосковья. -2015. -№ 2. -С. 57-63.
- Астафьева, Е. Н. Историко-педагогический контекст теории и практики современного образования/Е. Н. Астафьева//Academia. Педагогический журнал Подмосковья.-2016. -№ 4. -С. 56-68.
- Астафьева, Е. Н. Познавательный и образовательный потенциал истории педагогики//Е. Н. Астафьева/Academia: Педагогический журнал Подмосковья. -2016. -№ 2. -С. 59-62.
- Астафьева, Е. Н. Постигая историю педагогики. К итогам Третьего Национального форума российских историков педагогики/Е. Н. Астафьева//Academia: Педагогический журнал Подмосковья. -2015. -№ 2. -С. 59-62.
- Боревская, Н. Е. Китайская культура во времени и пространстве/Н. Е. Боревская, С. А. Торопцев. -М.: Институт Дальнего Востока. РАН. МИД Форум, 2010. -483 с.
- Боревская, Н. Е. Очерк истории школы и педагогической мысли в Китае/Н. Е. Боревская; Рос. акад наук, Ин-т Дал. Востока. -М.: Ин-т Дал. Востока, 2002. -145 с.
- Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т./Гл. ред. М. Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. -М.: Вост. лит., 2006. -Т. 1. -727 с.
- Корнетов, Г. Б. История педагогических идей/Г. Б. Корнетов//Психолого-педагогический поиск. -2015. -№ 1. -С. 197-203.
- Корнетов, Г. Б. История педагогики за рубежом с древнейших времен до начала XXI века: монография/Г. Б. Корнетов. -М.: АСОУ, 2013. -438 с.
- Корнетов, Г. Б. Исторический и педагогический аспекты истории педагогики/Г. Б. Корнетов//Известия РАО. -2016. -№ 2. -С. 108-126.
- Корнетов, Г. Б. Конфуцианская педагогика Древнего и Средневекового Китая/Г. Б. Корнетов//Психолого-педагогический поиск. -2016. -№ 3 (39). -С. 49-57.
- Корнетов, Г. Б. Педагогические идеи и учения в истории педагогики/Г. Б. Корнетов//Историко-педагогический журнал. -2015. -№ 2 -С. 44-68.
- Корнетов, Г. Б. Три ракурса изучения педагогического наследия прошлого: история педагогики, педагогическая история, историческая педагогика/Г. Б. Корнетов//Историко-педагогический журнал. -2017. -№ 1. -С. 38-55.
- Корнетов, Г. Б. Педагогика как наука и ее предыстория на ранних этапах развития человеческого общества/Г. Б. Корнетов//Психолого-педагогический поиск. -2015. -№ 4. -С. 66-75.
- Корнетов, Г. Б. Педагогика: теория и история: учеб. пособие/Г. Б. Корнетов. -3-е изд.,перераб., доп. -М.: АСОУ, 2016. -472 с.
- Корнетов, Г. Б. Предмет и методологические проблемы историко-педагогических исследований/Г. Б. Корнетов//Известия Российской академии образования. -2015. -№ 3. -С. 88-102.
- Корнетов, Г. Б. Понимание педагогики как истории педагогики/Г. Б. Корнетов//Психолого-педагогический поиск. -2013. -№ 4 (28). -С. 123-134.
- Корнетов, Г. Б. Содержание и смысл основного вопроса педагогики/Г. Б. Корнетов//Известия Российской академии образования. -2016. -№ 3. -С. 120-128.
- Переломов, Л. С. Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»)/А. И. Кобзев, А. Е. Лукьянов, Л. С. Переломов, П. С. Попов при участии В. М. Майорова.; Институт Дальнего Востока. -М.: Вост. лит., 2004. -431 с. (ред.)
- Переломов, Л. С. Конфуций. Лунь юй/Л. С. Переломов; перевод с кит.: исследование и комментарии Л. С. Переломова. -2-е изд. -М.: Вост. лит., 2000. 592 с.
- Рыков, С. Ю. Древнекитайская философия: Курс лекций/С. Ю. Рыков. -М.: ИФРАН, 2012. -312 с.
- Феоктистов, В. Ф. Философские трактаты Сюнь-цзы. Исследование. Перевод. Размышления китаеведа/В. Ф. Феоктистов. -М.: Наталис, 2005. -275 с.
- Классическое конфуцианство. В 2 томах. Том 2. Мэн-цзы. Сюнь-Цзы//Мартынов А. С. (сост.). Серия: Мировое наследие. -М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. -492 с.