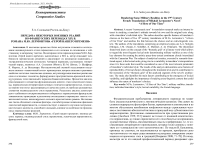Передача некоторых военных реалий во французских переводах XIX в. романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"
Автор: Соловьева Евгения Анатольевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время все более актуальным становится исследование индивидуального стиля переводчика и его позиции по отношению к собственному и авторскому текстам. На материале пяти переводов романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» выполненных в XIX в., автор описывает особенности переводческих решений и анализирует их возможную взаимосвязь с экстралингвистическим контекстом. Авторами переводов, составивших эмпирический корпус, являются: А.А. Столыпин (Монго), Ж.-М. Шопен, Э. Шеффтер, К. Мармье, А. де Вилламари. Методологической основой исследования послужило понятие «тематической сетки» произведения, которое позволяет трактовать наиболее частотные лексические единицы, актуализирующие военные реалии как одни из ключевых элементов, формирующих пространственно-временной континуум романа, тесно связанный с периодом Кавказской войны. Предметом анализа, реализованного в семантико-функциональном аспекте, стали лексические единицы, переводческая интерпретация которых отличается вариативностью, поскольку именно они могут рассматриваться в качестве одних их наиболее релевантных элементов индивидуального стиля переводчика. Результаты анализа демонстрируют особенности воспроизводимости избираемых переводчиками французских эквивалентов, приводящие к различному воссозданию в переводных текстах «тематической сетки» анализируемого сегмента архитектоники романа. Исследование также обозначает основные факторы, способствующие появлению феномена лексической вариативности, и свидетельствует о важности изучения экстралинг-вистического контекста, способного оказывать влияние на особенности принимаемых переводчиками решений.
М.ю. лермонтов, "герой нашего времени", военные реалии, перевод, индивидуальный стиль переводчика, лексическая вариативность, французский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/149139050
IDR: 149139050 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_296
Текст научной статьи Передача некоторых военных реалий во французских переводах XIX в. романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"
Фундаментальная проблематика литературного перевода не может быть сведена исключительно к лингвистическим аспектам. Она лежит на сложном перекрестке философии бытия, герменевтики и лингвистики и во многом обусловлена неизбежным конфликтом между стремлением человека к постижению абсолютной истины и присущей ему субъективностью мировосприятия. Достижение «эквивалентности при существовании различия» [Jacobson 1959, 233] зависит не только от языковой компетентности переводчика, но также определяется его способностью воспринимать художественные образы, импликативные смыслы и референции, т.е. те составляющие литературного произведения, которые тесно связаны с понятием его «уникальности» или «аутентичности». По мысли В. Беньямина, оригинал не статичен, он видоизменяется во времени, приобретая свою «аутентичность» по мере существования в культурных измерениях сменяющихся исторических эпох и традиций [Benjamin 2008, 71-78]. Поэтому, несмотря на то что каждый профессиональный перевод раскрывает ори-

гинальный текст заново, он лишь имитирует подлинник, указывая на связь с ним посредством различных «форенизирующих намеков» [Микшуров 2013, 21], выбор которых зависит от воли переводчика. Значительное влияние на переводческие решения могут также оказывать социальные установки переводчика, его аудитория [см.: Brisset 2004], а также принимаемые в обществе взгляды на перевод и конвенциональную норму, которой он должен соответствовать.
По данным причинам все более актуальным становится исследование роли переводчика как «переводящего субъекта» [Berman 1995, 60; Beals 2014], его индивидуального стиля и позиции по отношению к собственному и авторскому текстам. В рамках дескриптивного направления тра-дуктологических исследований, рассматривающих в наиболее общем виде стиль переводчика как мотивированную и воспроизводящуюся «манеру» (или «способ») перевода [Saldanha 2011, 30-31], предпринимаются попытки объективизации его описания путем использования квантитивных методов анализа [см.: Кеппу 2006; Lynch, Vogel 2018]. Приходит понимание важности сравнительного изучения феноменов, выявляемых в переводных текстах, созданных в сопоставимых условиях [Saldanha, O’Brien 2014, 67], и мы эту позицию разделяем. В этом аспекте ретроспективный анализ переводов, близких ко времени создания текста оригинала, представляет несомненный научный интерес.
Методология исследования
Действие романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» отсылает к 30-м гг. позапрошлого столетия и тесно связано с периодом Кавказской войны. Исходя из положения о том, что повторяющиеся в произведении слова играют роль его «тематической сетки» и содержат основную художественную информацию [Арнольд 1984, 7], мы рассматриваем неоднократно воспроизводящиеся лексические единицы (далее ЛЕ), номинирующие военные реалии, как одни из заметных культурно-исторических маркеров пространственно-временного континуума романа. Соответственно, их адекватное воспроизведение в переводном тексте является важным для воссоздания авторского замысла. Наиболее интересным представляется исследование ЛЕ, переводческая интерпретация которых отличается определенной множественностью, поскольку именно они в наибольшей степени отражают, по нашему мнению, когнитивный опыт переводчика и могут рассматриваться в качестве релевантных элементов его индивидуального стиля. Анализ обозначенного лексического материала позволяет оценить особенности переводческих решений и выявить возможные причинно-следственные связи с экстралингвистическим контекстом, что и составляет цель настоящей работы.
Объем эмпирической выборки составил 380 микроконтекстов. Ввиду наличия лакун в переводных текстах, для исследования были отобраны только ЛЕ, устойчиво воспроизводящиеся во всех анализируемых пере- водах. Дополнительно подчеркнем, что анализ показателей частотности в оригинале и переводах служит для демонстрации тенденций, а не для сравнения абсолютных величин.
Материалы исследования
Основным источником русскоязычного текста послужило академическое издание произведений М.Ю. Лермонтова 1954-1957 гг. [Лермонтов 1957]. Для исключения возможных разночтений, мы также обращались к изданию 1843 г. [Лермонтов 1843] и текстам первопечатных журнальных публикаций [Лермонтов 1839а; Лермонтов 1839b; Лермонтов 1840].
Уже к концу XIX в. было предпринято девять попыток перевода романа на французский язык, причем переводные тексты значительно варьировались по своему объему и содержанию [Кандель 1962; Шульц 1883]. Мы останавливаемся на анализе пяти переводов, выбор которых обусловлен как личностью переводчиков, в частности, их знакомством с реалиями России, так и полнотой и качеством самих переводов [Шульц 1883]. Из исследования были исключены: перевод 1845 г, выполненный в форме вольной компилированной интерпретации (автор Louis-Antoine Leouzon le Duc); перефразированный перевод 1863 г. (автор Eugene de Lonlay), а также переводы с доподлинно неизвестным авторством 1846 и 1880 гг, опубликованные во французских периодических изданиях L ’Illustration и Le Figaro. Supplement litteraire du dimanche («Тамань»),
Корпус переводных текстов составили:
-
1) самый первый перевод романа на французский язык, принадлежащий перу Алексея Аркадьевича Столыпина (Монго) (1816-1858) - двоюродного дяди и сослуживца М.Ю. Лермонтова. Перевод был опубликован в 1843 г. в парижской газете «La Democratie pacifique» [AAS 1843] под общим заглавием «Un heros du siecle, ou les Russes dans le Caucase» («Герой века, или Русские на Кавказе»), Содержит все части произведения, за исключением предисловия М.Ю. Лермонтова ко второму изданию романа 1841 г. Ранее данный перевод не становился предметом пристального лингвистического исследования;
-
2) перевод 1853 г, выполненный Жаном-Мари Шопеном (Jean-Marie Chopin, 1796-1870) - французским литератором, который длительное время жил в России, состоял личным секретарем русского посла в Париже князя А.Б. Куракина, а также является автором книг о России [Русская культура и Франция 1937, II, 651]. Заглавие произведения интерпретировано достаточно вольно - «Bela, ou Un heros de notre epoque. Nouvelle circas-sienne» («Бэла или герой нашей эпохи. Черкесская повесть»). Переведены с некоторыми пропусками все части романа, включая предисловие ко второму изданию. Перевод был впоследствии переиздан в 1873 г;
-
3) перевод 1855 г. Эдуарда Шеффтера (Edouard Scheffler, годы жизни и подробности биографии не выявлены). Перевод имеет собирательное название «Petchorine ou un heros d’aujourd’hui, scenes de la vie russe dans
Ie Caucase» («Печорин или сегодняшний герой, сцены из русской жизни на Кавказе»), Он появился в номерах газеты «Le Mousquetaire: journal de M. Alexandre Dumas» [ES 1855], издаваемой Александром Дюма-отцом, который в то время активно способствовал популяризации русской литературы. Предисловие ко второму изданию романа и глава «Фаталист» в переводе отсутствуют.
-
4) перевод 1856 г, озаглавленный «Un heros de notre temps» («Герой нашего времени») [ХМ 1856]. Его автором стал французский писатель и переводчик Ксавье Мармье (Xavier Marmier, 1809-1892). К. Мармье посещал Россию, живо интересовался ее культурой, переводил произведения русских классиков [Русская культура и Франция 1937, I, LVIII]. Перевод оценивался критиками как один из лучших [Шульц 1883, 469] и был дважды переиздан (в 1865 и 1889 гг.). Предисловие ко второму изданию романа и глава «Фаталист» пропущены, а предисловие к «Журналу Печорина» передано с купюрами;
-
5) перевод 1884 г. Альбера де Вилламари (Albert de Villamarie, биографические данные о переводчике отсутствуют) [ADV 1884]. Однако этот перевод является одним из наиболее полных, содержит все части произведения без существенных пропусков. Он имеет заглавие «Un heros de notre temps» («Герой нашего времени») и выдержал несколько изданий в конце XIX - начале XX вв. (в 1887, 1888 («Княжна Мери»), 1904, 1922 гг). А. де Вилламари также является автором переводов лермонтовского «Демона» и «Евгения Онегина» А.С. Пушкина.
Особенности интерпретации военных реалий романа в переводных текстах XIX в.
Лексика, актуализирующая военные реалии первой половины XIX в. широко представлена в романе. Многие реалии воспринимаются различными переводчиками однообразно и не демонстрируют существенных различий при передаче в пространство принимающего языка. Например: казак (cosaque или Cosaque), драгунский капитан (capitaine de dragons), майор (major- перевод в соответствии с узусом эпохи), пистолет (pistolet), пуля (balle), ружье (fusil), мундир (uniforme), эполет (epaulette), кинжал (poignard), шпага (ёрёе). Однако интерпретация других демонстрирует более заметное разнообразие. Среди наиболее частотных ЛЕ, порождающих феномен переводческой вариативности, можно выделить следующие: крепость (31 употребление в романе), шинель (20 употреблений), шашка (15), часовой (10). Остановимся на их подробном анализе.
Действующие крепостные укрепления являлись неотъемлемым элементом кавказского ландшафта первой половины XIX в. Согласно лексикографическому определению, русская ЛЕ крепость могла называть «каждое каким бы то ни было образом укрепленное место, которым можно овладеть только посредством правильной осады <...>» [Военный энциклопедический лексикон 1852-1858, VII, 527]. В романе данная лексема отсылает к нескольким сооружениям: к крепости N, расположенной где-то «за Тереком», «у Каменного Брода», в которой служил Максим Максимыч (24 раза); к крепости Владикавказ (1 раз); к Кисловодской крепости (5 раз) и к прибрежной крепости Фанагория на восточной окраине станицы Тамань (1 раз).
Обращаясь к более обиходному наименованию крепость, автор не привлекает другие ЛЕ, использование которых было бы возможным. Так, например, в документах эпохи Кисловодская крепость иногда называлась Кисловодским укреплением [Фелицын 1899]. Это же обозначение может быть применено и к сравнительно небольшой крепости Максима Максимыча, которую исследователи обычно соотносят либо с укреплением Таш-Кичу (доел. Каменный Брод), либо с одним из укреплений, расположенным по реке Сунжа [см.: Дурылин 2006, 43-44]. Кроме того, для наименования подобного рода сооружений употреблялась ЛЕ форт. Это было особенно типичным для фортификационных сооружений, принадлежащих к Черноморской береговой линии, например: Головинский форт, Лазаревский форт и т.д. Что же касается владикавказского и таманского укреплений, то они имели закрепившийся статус крепостей, поскольку обладали более крупными размерами и занимали важные стратегические позиции.
Многократное повторение ЛЕ крепость на протяжении всего текста произведения помогает очертить культурно-исторический фон и актуализировать повторяющиеся вехи на жизненном пути героев, скитающихся от одного похожего фортификационного сооружения к другому. В целом, переводчики следуют авторской тенденции повторяемости обозначения данной реалии, однако наиболее часто используют для этого два французских эквивалента: ЛЕ fort (доел, форт) и forteresse (доел, крепость). Их распределение в анализируемых переводах представлено в нижеследующей таблице.
Таблица №1
|
ЛЕ |
Столыпин Шопен Шеффтер |
Мармье |
де Вилламари |
||
|
кол-во употреблений |
|||||
|
fort |
27 |
28 |
27 |
34 |
1 |
|
forteresse |
8 |
1 |
11 |
0 |
33 |
Однако французские лексемы fort и forteresse обладают различным семантическим объемом. Первая обычно соответствует относительно небольшому оборонительному сооружению, расположенному за пределами города и предназначенному для обороны обособленного пункта [DL; TLFi], На территории фортов могли быть расквартированы только военнослужащие [Bardin 1845b, 2361]. Вторая ЛЕ называет достаточно крупное укрепление, предназначенное для защиты целого города или региона [DE; TLFi], Помимо этого, уже в первой половине XIX в. ЛЕ forteresse рассматривалась как более уместная в исторических или теоретических трудах по военному делу, нежели в текущей административной комму-

никации военнослужащих, в которой вместо нее обычно использовались ЛЕ place или place de guerre [Bardin 1845b, 2362]. Таким образом, можно заключить, что отличия в переводе ЛЕ крепость обусловлены как несовпадением семантического объема лексем, так и узусом их употребления. За исключением А. де Вилламари, переводчики отдают предпочтение ЛЕ fort, которая более соответствовала активно действующему укреплению, нежели историческому артефакту
С другой стороны, можно полагать, что некоторое влияние на выбор французского эквивалента также оказывает индивидуальное представление переводчиков о кавказской фортификации. Так, интуитивно или осознанно, А.А. Столыпин, который имел опыт жизни и военной службы в регионе, использует ЛЕ forteresse по отношению к крепостям Владикавказ и Фанагория (2 употребления), что соответствовало их официальному именованию. Остальные б употреблений данной лексемы в его переводе соотносятся с четко не обозначенным местом службы Максима Максимыча, которое в остальных случаях (21 раз) переводчик интерпретирует при помощи ЛЕ fort. X. де Вилламари делает выбор в пользу ЛЕ forteresse, он лишь единожды обращается к лексеме fort для актуализации крепости на окраине Тамани («fort de Phanagoria»). Возможно, его решение обусловлено тем, что только это сооружение имеет прибрежную локализацию. К. Мармье, напротив, совершенно отказывается от употребления ЛЕ forteresse. Но в одном случае он обозначает крепость Максима Максимыча как paste du Terek, указывая в переводческом примечании, что лексема krieposte (сохранена орфография источника - Е.С.) обозначает разновидность редута на Кавказской линии, защищенного земляным валом и частоколом [ХМ 1856, 13]. Однако в дальнейшем переводчик не использует ЛЕ paste (доел, пост) для номинации данной реалии.
Шинель является заметным атрибутом образа Грушницкого. Выступая материальным воплощением его бутафорской «трагической мантии», возбуждая сочувствие к романтическим порывам юности и насмешку над болезненным тщеславием юнкера, этот элемент обмундирования играет важную роль в сюжетной композиции произведения. Из 20 употреблений лексемы шинель, присутствующих в романе, 18 прямо или косвенно соотносятся именно с Грушницким. Из приводимой ниже таблицы видно, что стратегию повторяемости избирают три переводчика, но они используют для этого различные французские эквиваленты.
Таблица №2
|
ЛЕ |
Столыпин |
Шопен |
Шеффтер |
Мармье |
де Вилламари |
|
кол-во употреблений |
|||||
|
capote |
15 |
5 |
15 |
6 |
0 |
|
manteau |
3 |
2 |
2 |
9 |
15 |
|
tunique |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
А.А. Столыпин и Э. Шеффтер отдают предпочтение ЛЕ capote, тогда как А. де Вилламари избирает лексему manteau. Называя элемент во-302
енной одежды, эти две лексемы находятся в гипо-гиперонимических отношениях, поскольку ЛЕ capote трактуется словарными источниками как просторное и тяжелое «manteau militaire» [TLFi], Согласно авторскому замыслу, Грушницкий служит в пехотном подразделении, а ЛЕ capote более активно употреблялась для обозначения именно пехотных шинелей, которые в XIX в. отличались значительным разнообразием [Bardin 1849а, 1016-1019]. Лексема manteau в то время реже использовалась в лексиконе пехоты и соотносилась преимущественно с предметом обмундирования офицерского состава («effet d’habillement des officiers») этого рода войск [Bardin 1849с, 3304]. Таким образом, можно заключить, что ЛЕ capote обладает более высокой степенью эквивалентности, а конкретизирующий перевод с ее использованием вполне соответствует реальным военным практикам эпохи. Примечательно, что для актуализации шинелей двух других персонажей (безымянного повествователя и следившего за Печориным в саду человека) все переводчики используют ЛЕ manteau. Поэтому в переводах А.А. Столыпина и Э. Шеффтера ЛЕ capote, заметно предпочитаемая для актуализации шинели Грушницкого, позволяет дополнительно маркировать его образ.
Что же касается ЛЕ tunique, то ее трудно рассматривать в качестве адекватного эквивалента русской лексемы шинель. В соответствии с лексикографическим описанием ЛЕ tunique обозначает длинную приталенную форменную куртку или блузу (vareuse d’uniforme) [DE; TLFi], что более соответствовало бы военному сюртуку XIX в., нежели шинели. Дополнительным подтверждением этому служит тот факт, что некоторые словари интерпретируют ЛЕ capote как «vetement militaire porte sur la tunique» [DE], Кроме того, переводчики спорадически прибегают к опущениям и другим контекстуальным заменам ЛЕ шинель-, ignoble costume (А.А. Столыпин); modeste uniforme /surtout de soldat / vetement grassier (Ж.-М. Шопен); grossiere enveloppe (Э. Шеффтер); vetement de soldat / habit de soldat (К. Мармье); costume de soldat/vetement de soldat/grassier uniforme (А. де Вилламари).
Шашка представляет собой род сабли, разновидность длинноклинкового оружия, которое благодаря своим боевым качествам пользовалось большой популярностью во время Кавказской войны. Она отличается от сабли рядом функциональных и конструкционных особенностей. По мнению исследователей, данное наименование происходит от адыгской лексемы ses/o (са’шхо) и может быть переведено как «длинный нож» [Ку-линский 2001, 144]. Неоднократно повторяясь на протяжении практически всего текста романа, ЛЕ шашка является не только «экзотической» номинацией, призванной придать колорит повествованию, но и артефактом оружейной культуры, отражающим очень характерное для того времени активное заимствование армейской средой элементов традиционного кавказского костюма и вооружения. Так, уже в 1834 г. шашка присутствует как уставной тип оружия в Нижегородском драгунском полку [Кулинский 2001, 145-146], который длительное время находился на Кавказе и куда в
1837 г. был переведен М.Ю. Лермонтов. Описывая в очерке типические особенности офицера Отдельного кавказского корпуса, поэт отмечает: «<...> у него завелась шашка, настоящая гурда, кинжал - старый базалай, пистолет закубанской отделки <...>» [Лермонтов 1957, 349]. Таким образом, автор произведения был не только хорошо знаком с этим видом оружия, но и осознавал его как распространенный элемент межкультурного обмена. Попутно отметим, что лексема сабля отсутствует в оригинальном тексте, хотя сабли являлись традиционным уставным оружием.
Нижеследующая таблица демонстрирует разнообразие переводческих решений, служащих для передачи ЛЕ шашка. При оценке тенденции воспроизводимости следует учитывать, что глава «Фаталист», отсутствующая в переводах Э. Шеффтера и К. Мармье, содержит 5 из 15 употреблений данной ЛЕ.
Таблица №3
|
ЛЕ |
Столыпин |
Шопен |
Шеффтер |
Мармье |
де Вилламари |
|
кол-во употреблений |
|||||
|
sabre |
10 |
0 |
8 |
3 |
14 |
|
cimeterre |
0 |
6 |
0 |
0 |
1 |
|
schaschka |
0 |
0 |
1 |
5 |
0 |
Обращаясь к гиперониму sabre (сабля), А.А. Столыпин, Э. Шеффтер и А. де Вилламари избирают путь регулярной воспроизводимости наряду с максимальной «доместикацией» реалии. Говоря современным языком, данное решение может служить наглядным примером реализации универсальной тенденции переводческого упрощения [Baker 1992,26-27], однако оно представляется достаточно парадоксальным в переводе А.А. Столыпина, который не только обладал общим с автором опытом военной службы, но и не отказывался от приемов «форенизирующего» перевода для актуализации других, менее частотных культурных реалий. Так, например, при помощи переводческой транскрипции им передаются такие ЛЕ как: аул (aoule - 7 употреблений; сохранена орфография источника Е.С.), бешмет (beshmet - 4), бурка (bourka -3), буза (bouza - 1 употребление). Поэтому можно полагать, что выбор переводческого решения обусловлен, в данном случае, исключительно субъективными предпосылками и языковыми предпочтениями переводчика.
Ж.-М. Шопен избирает в качестве приблизительного эквивалента более знакомую иноязычному читателю ЛЕ cimeterre (доел, скимитар), которая актуализирует кривую восточную саблю с однолезвийным клинком, расширяющимся к острию [TLFi], Хотя форма и боевые качества этих двух типов оружия различаются, уподобляющий перевод дает представление об описываемой реалии и ее примерном происхождении. Небезынтересно отметить, что одно из первых исторических упоминаний черкесского оружия, присутствующее в путевых записках доминиканского монаха и путешественника Джиовани де Лукка, известных в Западной Европе в переводе французского писателя Мельхиседека Тевено, содержит лексему 304
cimeterre. Процитируем: «<...> ils se servent de leurs fleches devant & derriere, & sont braves le cimeterre a la main» («<...> они (черкесы) пускают стрелы вперед и назад и с ловкостью владеют скимитаром»; сохранена орфография источника - Е.С.) [Thevenot 1663, 121]. Кроме того, для интерпретации шашки Ж.-М. Шопен чаще других использует опущения и контекстуальные замены: агте (2 употребления) - оружие, lance (1) - копье, poignard - кинжал (1). В одном случае его перевод носит ошибочный характер, что обусловлено неверным прочтением слова шапка (bonnet) вместо шашка [JMC 1853, 85]:
Лермонтов
Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал -подарок приятеля - все исчезло.
Шопен
Helas! ma cassette, mon bonnet garni d’argent, mon poignard du Daghestan, dont un ami m’avait fait present, avaient disparu.
Транскрипционная лексема schaschka, присутствующая в переводах Э. Шеффтера и К. Мармье, преимущественно служит для актуализации оружия горцев. В частности, К. Мармье только в одном из пяти употреблений соотносит ее с образом Печорина. Э. Шеффтер единожды прибегает к приему транскрипции исключительно для актуализации редкого и дорогого оружия старого князя, отца Азамата, что позволяет отдельно выделить описываемый артефакт. Перечисленные переводческие решения носят субъективный характер и не согласуется ни с текстом произведения, ни с реально существовавшей ситуацией.
Наряду с этим нельзя утверждать, что более редкое использование транскрипционного перевода обусловлено повышенной сложностью восприятия ЛЕ schaschka иноязычным реципиентом, поскольку она присутствует в некоторых документах эпохи. В качестве примера можно привести упоминаемый выше перевод Л.-А. Леозона ле Дюка, в котором ЛЕ schaschka используется 7 раз без какой-либо дополнительной экспликации [LED 1845]. Поэтому, можно полагать, что выбор переводческого решения является преимущественно субъективно мотивированным.
Согласно общему определению, принятому в XIX в., часовой - это «солдат, поставленный для охранения вверенного ему поста <.. .>» [Военный энциклопедический лексикон 1852-1858, XIV, 8]. Для актуализации этой типичной для описываемого времени реалии, переводчики используют в большинстве случаев два французских эквивалента: sentinelle и factionnaire, которые в настоящее время являются синонимами [DL],
Таблица №4
|
ЛЕ |
Столыпин Шопен Шеффтер | Мармье |
де Вилламари |
|||
|
кол-во употреблений |
|||||
|
sentinelle |
9 |
7 |
7 |
1 |
10 |
|
factionnaire |
1 |
3 |
0 |
7 |
0 |
Однако еще в XVIII в. употребление ЛЕ factionnaire в значении sen- tinelle еще не было общепринятым, поскольку ЛЕ faction обозначала понятие «военная служба», а ЛЕ factionnaire обычно использовалась для актуализации реально служащего солдата-пехотинца [Bardin 1845b, 2339]. Затем произошло смещение смыслового содержания лексемы factionnaire, которая стала употребляться в качестве синонима sentinelle. За исключением К. Мармье, переводчики предпочитают более традиционный вариант sentinelle. Выбор К. Мармье может быть обусловлен как его индивидуальными предпочтениями, так и тем фактом, что ЛЕ factionnaire относится к мужскому роду, а ЛЕ sentinelle - к женскому Помимо этого, переводчики иногда обращаются к контекстуальным заменам, представленным как отдельными лексемами, так и перифрастической конструкцией: soldat / soldat de garde (Э. Шеффтер); soldat / etre en faction (К. Мармье).
Выводы
Предпринятое исследование позволило выделить четыре наиболее частотные ЛЕ (10 и более употреблений в романе), обозначающие военные реалии, актуализация которых сопровождается заметной вариативностью переводческих решений, наблюдаемой в переводах романа, выполненных в течение позапрошлого столетия.
Выявленные отличия при выборе лексических эквивалентов обусловлены: 1) объективно существующими языковыми расхождениями, проявляющимися в несовпадении семантического объема ЛЕ; 2) когнитивным опытом переводчиков, их индивидуальными языковыми предпочтениями, а также восприятием описываемой реалии; 3) узуальными особенностями использования языковых единиц, свойственных определенному историческому периоду; 4) субъективной интерпретацией переводчиками роли актуализируемой реалии на уровне художественного текста, о чем свидетельствует частотное маркирование соотнесенности военной реалии с персонажами произведения, присутствующее в переводах А.А. Столыпина, Э. Шеффтера и К. Мармье. Перечисленные факторы препятствуют достижению абсолютной инвариантности оригинальной и переводной репрезентации описываемых реалий и в некоторых случаях могут приводить к некоторым отступлениям от авторского замысла.
В целом анализ переводных текстов свидетельствует о наиболее устойчивой воспроизводимости избираемых французских эквивалентов в переводах А.А. Столыпина, Э. Шеффтера и А. де Вилламари, что способствует более адекватному воссозданию «тематической сетки» рассматриваемого сегмента архитектоники произведения.
Проведенное исследование свидетельствует в пользу того, что полноценный анализ индивидуального стиля переводчика невозможен без учета экстралингвистических факторов, способных оказывать влияние на особенности принимаемых им решений. Изучение обозначенной проблематики мы продолжим в наших дальнейших исследованиях с привлечением более обширного материала.