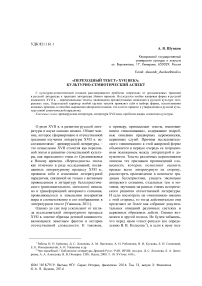"Переходный текст" XVII века: культурно-семиотический аспект
Автор: Шунков Александр Викторович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
С культурно-семиотической позиции рассматривается проблема «перехода» от средневековых традиций в русской литературе к традиции литературы Нового времени. Исследуется особая жанровая форма в русской книжности XVII в. – церемониальные тексты, являющиеся предвестниками появления в русской культуре театральных пьес. Переходный характер особой группы текстов проявляет себя в выборе формы, использовании книжных приемов, в способах выражения авторской позиции, что в итоге привело к утверждению в русской культуре новой семиотической парадигмы.
Древнерусская литература, литература xvii века, проблема жанра, семиотика культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/147219008
IDR: 147219008 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи "Переходный текст" XVII века: культурно-семиотический аспект
О роли XVII в. в развитии русской литературы в науке сказано немало. Общее мнение, которое сформировано в отечественной традиции изучения литературы XVII в. исследователями 1 древнерусской литературы, – это осмысление XVII столетия как переломной эпохи в развитии отечественной культуры, как переходного этапа от Средневековья к Новому времени. «Переходность» эпохи, как отмечено в ряде исследований, посвященных литературному процессу XVII в., проявила себя в изменении литературной парадигмы, связанной не только с активным привнесением в литературу беллетристического (развлекательного, светского) начала, но и трансформацией авторского сознания, проявляющегося в изменении восприятия мира и соответственно в его изображении в литературном тексте [Ужанков, 2011].
Однако до сих пор ускользают от взгляда исследователей литературного процесса XVII в. многие образцы деловой книжности, являющиеся заметным фактом в истории отечественной словесности. К таковым, к примеру, принадлежат тексты, именовавшиеся «чиновниками», содержащие подробные описания придворных церемониалов, церковных служб. Причина исследовательского «невнимания» к этой жанровой форме объясняется в первую очередь ее пограничным положением между литературой и документом. Тексты различных церемониалов лишены тех признаков произведений словесности, которые позволяют оценить прежде всего литературную их сторону, рассмотреть произведение в контексте традиции беллетристики, увидеть эволюцию авторского сознания, отдельных тем и мотивов, звучащих на разных этапах исторического развития отечественной литературы. И если посмотреть на «чиновники» именно с этой стороны, то тогда действительно они предстают не более как собрание документальных описаний различных светских и церковных обрядовых действ. Однако возможен и другой подход. Не будем забывать, что перед нами «текст-ритуал» (по определению В. В. Колесова 2), и если к нему под- ходить с культурно-семиотической позиции («средневековые культурные тексты обладают высокой степенью семиотической насыщенности» [Лотман, 2004. С. 50]), то тогда станет возможным совершенно иное их восприятие, понимание места и роли в развитии отечественной литературы и шире – художественной культуры. Напомним, с позиции культурно-семиотического метода [Лотман, Успенский, 2004. С. 485–504] любой факт истории воспринимается и оценивается как событие коммуникации, описанное своим языком 3. «В семиотической перспективе исторический процесс может быть представлен, в частности, как процесс коммуникации, при котором постоянно поступающая новая информация обусловливает ту или иную ответную реакцию со стороны общественного адресата (социума)» [Успенский, 1996. С. 11–12], и в этой ситуации «важно, как осмысляются соответствующие события, какое значение им приписывается в системе общественного сознания» [Там же. С. 12].
Исходя из подобного культурно-семиотического понимания исторического процесса (как коммуникационной модели), важным тогда становится взгляд на события истории (в том числе и историко-литературные) как на особый семиотический текст, отражающий систему представлений определенного «культурно-исторического ареала». «Культурно-семиотический подход к истории предполагает апелляцию к внутренней точке зрения самих участников исторического процесса: значимым признается то, что является значимым с их точки зрения» [Там же. С. 11].
С этой позиции любое событие, вербализованное и зафиксированное в документальной форме, есть текст, в котором запечатлена определенная система представлений о ми-рообразе, «обусловливающих как восприятие тех или иных событий, так и реакцию на эти события» [Там же]. «Тексты-ритуалы» определенной исторической эпохи, к числу которых принадлежат и «чиновники», как нельзя лучше демонстрируют, с одной стороны, фиксацию произошедшего исторического события, его «архивацию» в до- кументальной форме, а с другой – этот же документ способен выразить эмоциональное отношение к нему со стороны того или иного субъекта. В итоге рождается иное понимание, новое осмысление события, и возникает определенная реакция на событие, его интерпретация, выражаемая посредством слова 4. «Одни и те же объективные факты, составляющие реальный событийный текст, могут по-разному интерпретироваться на разных “языках” – на языке соответствующего социума и на каком-либо другом языке, относящемся к иному пространству и времени (это может быть обусловлено, например, различным членением событий, т. е. неодинаковой сегментацией текста, а также различием в установлении причинноследственных отношений между вычленяемыми сегментами)» [Успенский, 1996. С. 13].
Применительно к литературному процессу следствием подобной ситуации, как известно, является проникновение в литературу документальных жанровых форм и в итоге их беллетризация. Данная проблема не потеряла своей актуальности и продолжает привлекать внимание теоретиков и историков литературы 5. Круг вопросов, интересующих ученых, – это вопросы, в первую очередь затрагивающие особенности жанровых образований и различных модификаций внутри одного жанра, стилевое своеобразие, роль автора, эстетическое значение и ряд других. Однако процесс перехода документального текста в книжный, принятие им литературного облика возможно объяснить и с культурно-семиотической позиции, для которой важным является понимание «превращения события в текст… подчинение его заранее данной структурной организации» [Лотман, 2004. С. 339].
Насколько прочно вошли в повседневный быт русского двора второй половины XVII в. церемониальные действа (чины), к примеру, могут свидетельствовать «Дневальные записки приказа Тайных дел» [Белокуров, 1908] 6. Данный документальный памятник содержит в себе упоминание о следующих церемониалах, наиболее часто совершавшихся при дворе царя Алексея Михайловича с непосредственным его участием. Это действо на новолетие, совершавшееся ежегодно 1 сентября, прием послов, царские потехи – соколиная охота («ходил государь в Семеновское и на поле тѣшился птицами»), иные развлечения, сопровождавшиеся игрой на музыкальных инструментах («а достальные сокольники в особом же столѣ сидѣли, гдѣ арганы стоять. 7176 г., сентября 1–10», с. 253), включая и первые театральные постановки – «комедии» («А после бож. литоргиi изволил великиi государь итти в переднюю и жаловал к руке иноземцовъ, которые былi в камедиi, и всякихъ чиновъ людей. 7181 г. апрѣля 3–24», с. 300; «А после стола въ 7-м часу н(очи) была потѣха: трубили в тру… и по накрамъ биллi. 7183 г., октябрь», с. 313) и др.
Мы не рассматриваем здесь церковные службы, проходившие с неизменным участием царя, такие как всенощные, заутрени, вечерни, панихиды, торжественные праздничные службы, крестные ходы и др. Но Дневальные записки приводят упоминание об особых церковных чинах, представляющих целые театральные действа, в которых принимал участие царь: действо Страшного суда («а после божественныя литоргиi великиi государь ходил к дѣйству Страшна-го суда, а дѣйство было позадi олтарей соборные и апостольские церкви на площадi против прежних годов. 7168 г. февраля 23 – 2 марта» (с. 61, 170, 208); купание в Иордани («а после вечерни был ход на Иердань; а по совершениi дѣйства на Иердани 7 в соборную же церковь и было многолѣтье, и великому государю власти, и бояря, и окольничие, и думные, и ближние i всяких чинов люди здравствовали. 7170 г., декабря
29 – 11 января», с. 121, 206); действо «Шествие на осляти» исполнялось за неделю до Пасхи, в Вербное воскресенье, в день церковного праздника «Вход Господень в Иерусалим» («Въ 8 день в недѣлю Цветоносную великиi государь слушал всенощного бдѣ-ния и бож. литоргиi… А преж литоргиi великиi государь ходил в… церковь, а ис соборные церкви за образы к церкви Вход во Иеросалим Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа, что за Спасскими вороты… а от Лобного мѣста в Кремль к соборной же церкви Успения пресвятые Богордицы велъ осля, как чинъ обдержитъ. Повод нес боя-ринъ князь Никита Iвановичь Одоевской; а осля за узду вели: с правой стороны Илья Безобразов, с лѣвой патриаршъ казначей; на осляти сидѣл Новгородцкой митрополитъ Питиримъ. 7174 г., марта 25 – 7 мая», с. 212–213).
Как отмечалось в ряде исследований, некоторым из церковных чинов, после того как они вышли из церковной обрядовой практики, суждено было стать театральными пьесами [Первые пьесы…, 1972] и продолжить свое существование уже как произведения светской художественной культуры XVII в. Примером может служить чин пещ-ного действа [Дмитриевский, 1894. С. 553– 600; Понырко, 1977, С. 84–100; 1999, С. 18– 20; Стенникова, 2006], известный на Руси с XVI в. и имевший непосредственное отношение к церковному празднованию Рождества Христова. После того как чин пещного действа был упразднен, на его основе Симеон Полоцкий создает свою театральную пьесу «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных» 8. В этой же традиции находится и другая его пьеса «Комидия притчи о блуднем сыне» [Симеон Полоцкий, 1953; Демин, 1972. С. 313–324], генетически связанная с четырьмя неделями, предшествующими Великому посту (о мытаре и фарисее, о блудном сыне, мясопустная и сыропустная) [Панченко, 2000. С. 74–75].
По мнению А. М. Панченко, одна из причин, которая может быть названа при объяснении процесса трансформации обрядового текста в театральное действо («комидию»), это новое «историософское ощущение», возникшее в XVII в. Появившиеся во второй половине XVII в. при дворе царя Алексея Михайловича театральные пьесы воспринимались как «правдоподобное изображение прошлого» [2000. С. 74]. «Чин Пещного действа “был истинным”, “комидия” же Симеона Полоцкого – всего лишь “правдоподобной”, она допускала вымысел, писательское вмешательство в историю (недаром до сей поры не выяснены все источники пьесы “О Навходоносоре царе”; они и не могут быть выяснены, поскольку в ней присутствует индивидуально-творческий момент). Чин Пещного действа и пьеса Симеона Полоцкого с историософской точки зрения находятся в антагонистических отношениях: на смену вере приходит культура, на смену “вечности-в-настоящем” приходит отдаленная история» [Там же].
Однако изменения, отмеченные А. М. Панченко применительно к литературному процессу 70-х гг. XVII в., стали складываться двумя десятилетиями ранее – в середине столетия. Примером может служить известный чин, но уже имевший светскую природу, – чин посвящения начального сокольника, подробно изложенный в «Книге, глаголемой Урядник: новое уложение и устроение чина сокольничья пути» («Урядник сокольничья пути», 1656 г.) 9.
Внимание к последнему чину в истории отечественной культуры и науки было постоянным, начиная с XVIII в. [Шунков, 2006. С. 44–52]. За время изучения памятника удалось подробно рассмотреть художественную природу произведения, для которой свойственно соединение традиций документальной и литературной книжности, осветить степень участия царя Алексея Михайловича в создании чина.
С позиции интересующей нас проблемы «Урядник сокольничья пути» также является примером книжного текста XVII в., где обе традиции (документальная и литературная) объединены. С одной стороны, по своей структуре перед нами типичное описание одного из множества придворных церемо- ниалов второй половины XVII в. с подробным изложением порядка его проведения, с перечислением предметов, используемых по ходу совершения чина, основных действующих лиц, их роли и местонахождении в каждый момент совершаемого действа. Однако «Урядник», созданный при непосредственном участии монарха, имеет одно существенное отличие. Созданный как новая редакция известного до этого чина (что подчеркнуто в самом названии – «Новое 10 уложение и устроение чина сокольничья пути»), по всей видимости, заменивший старый, до нас не сохранившийся, памятник предстает уже и как образец произведения, имеющего художественную природу. Подтверждением высказанного суждения являются те фрагменты чина (его вступительная часть), в которых составитель чина поэтизирует соколиную охоту, дает ей субъективную оценку (восхищение и воспевание) и выражает свое личное отношение к соколиной охоте. «И зело потеха сiя полевая утешает сердца печальныя, и забавляет ве-селiем радостным, и веселит охотников сiя птичья добыча» [Собрание писем…, 1856. С. 91] и т. д.
Однако сейчас этот уникальный текст XVII в. может быть интересен не только своей художественно-эстетической стороной (что неоднократно отмечалось в ряде исследований [Шунков, 2007], посвященных истории и поэтике памятника), но и с позиции культурно-семиотической. На его примере возможно проследить, как в переходную эпоху для истории русской литературы и культуры происходил процесс смены семиотической парадигмы, процесс «превращения события в текст» [Лотман, 2004. С. 339], нарративный источник.
«Урядник сокольничья пути» по своей природе является уникальным творением для русской книжной культуры. Необходимо помнить, что данный текст существовал неразрывно с обрядовым действом (генетически восходящим к обрядам перехода [Геннеп, 2002]) – посвящения рядового сокольника в начальные. Текст чина дает подробное описание процедуры совершения этого обряда. По всей вероятности, данный обряд при дворе царя Алексея Михайловича совершался часто в силу особой страсти царя к соколиной охоте, о чем свидетельствует эпистолярное наследие монарха, его переписка с А. И. Матюшкиным [Письма царя…, 1836; Собрание писем…, 1856. С. 11– 86] и другими лицами, входившими в ближайшее окружение царя [Письма царя…, 1862. С. 1–5; Письма русских государей…, 1896].
В то же время текст чина редактировался неоднократно при непосредственном участии самого царя 11. Алексей Михайлович не мог не привнести в описание церемониала свое индивидуальное отношение к любимой потехе, не мог не выразить те эмоции, которые он испытывал в момент проведения охоты с птицами. Исследователями и публикаторами «Урядника» неоднократно приводились эти художественные фрагменты документа – творческие проявления «чернений государевой руки» [Урядник…, 1969. С. 567–572, 774–775].
«Л. 11. Безмерно славна и хвальна креча-тья добыча. Удивительна же // Л. 11 об. и утешительна и челига кречатья добыча. Угодительна же и потешна дермлиговая пе-релазка и добыча. // Л. 12. Красносмотри-тельно же и радостно высоково сокола лет. Премудра же челига соколья добыча и лет. // Л. 15 об Радуйтеся и веселитеся, утешай-теся и наслаждайтеся сердцами // Л. 16. своими, добрымъ и веселымъ симъ утеше-нiемъ въ предыдущiя лета» 12.
Подобное соединение в одно целое поступка и слова (как раз здесь и происходит переход «из области ритуального игрового действа в сферу словесного текста» [Лотман, 2004. С. 287]), которое мы наблюдаем на примере «Урядника», и позволяет назвать его «текстом-ритуалом», создающим особый упорядоченный мир, особое представление об универсуме. Повторение определенных кодифицированных действий участниками ритуала и произнесение ими также узаконенных чином реплик имеет глубокую семиотическую природу, отражающую меняющееся авторское сознание во второй половине XVII в.: по образу и подобию церковных обрядов создать и узаконить в реальной действительности светский церемониал, который должен восприни- маться как непреложный и требующий своего точного повторения в последующих ситуациях.
Здесь проявляется важнейшее свойство средневекового сознания, ориентированного на иное восприятие истории и времени, членение которого основано на строго упорядоченной повторяемости: «Подобно тому, как текст, имеющий на странице книги вневременное бытие, в процессе чтения реализуется как уже прочтенный, читаемый или тот, который еще будет читаться, текст мировой истории для средневекового сознания существует в своем глубинном бытии вне времени и лишь, обновляясь в реализующих его поступках людей, обретает временную последовательность. …При этом следует учесть, что само понятие чтения было иным: оно подразумевало не только повторение и постоянное возвращение к определенным текстам, но и упорядоченность этих возвращений. Аналогично этому и человеческие поступки могли восприниматься как повторение поступков уже бывших, вернее повторная реализация их глубинных прообразов» [Лотман, 2004. С. 357].
Таким образом, памятник как по своим художественным, так и по мировоззренческим особенностям его составителя демонстрирует совершенно новое отношение к процессу создания и бытования текста в изменившейся историко-культурной ситуации второй половины XVII в. Новизна его в том, что задолго до острой полемики противоборствующих сторон (традиционалистов и «новых учителей»: Аввакума – Симеона Полоцкого) закладывается абсолютно новое для русской культуры понимание как процесса создания текста, так и его дальнейшего восприятия. Эта ситуация в свое время была определена А. М. Панченко как «замена веры культурой, обихода “утехой”, обряда зрелищем, “прохладой”, развлечением» [2000. С. 75].
«THE TRANSITIONAL TEXT» OF THE XVII CENTURY:
CULTURAL AND SEMIOTICS ASPECT
Список литературы "Переходный текст" XVII века: культурно-семиотический аспект
- Белокуров С. А. Дневальные записки приказа Тайных дел 7165-7183 гг. Издание Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. М., 1908.
- Геннеп А. ван. Обряды перехода: систематическое изучение обрядов. М.: Вост. лит., 2002. 198 с.
- Демин А. С. Симеон Полоцкий. «Комидия притчи о блуднем сыне»//Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII века/Изд. подгот. О. А. Державина, А. С. Демин, В. П. Гребенюк; под ред. О. А. Державиной (Ранняя русская драматургия. XVII -первая половина XVIII в., вып. 2). М.: Наука, 1972. 368 с.
- Дмитриевский А. А. Чин пещного действа: историкоархеологический этюд (посвящается проф. Н. Ф. Красносельцеву)//Византийский Временник. СПб., 1894. Т. 1.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры//Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство -СПб, 2004. 704 с.
- Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство -СПб, 2004. 704 с.
- Панченко А. М. О русской истории и культуре. СПб.: Азбука, 2000. 464 с.
- Первые пьесы русского театра. М.: Наука, 1972. 510 с.
- Письма русских государей и других особ царского семейства. Письма царя Алексея Михайловича/Под ред. С. А. Белокурова. М., 1896. Т. 5.
- Письма царя Алексея Михайловича к А. И. Матюшкину (22 письма)//Сборник Муханова. М., 1836.
- Письма царя Алексея Михайловича к П. С. Хомякову (1656-1657)//ЧОИДР. М., 1862. Кн. 1: Смесь.
- Понырко Н. В. Источниковедение литературы Древней Руси (эпистолярное наследие XI-XIII вв., памятники рождественского и великопостного литургических циклов в народной культуре XVI-XVII вв., старообрядческая письменность XVII-XVIII вв.): Дис. в форме науч. докл. … д-ра филол. наук. СПб., 1999.
- Понырко Н. В. Русские святки XVII в.//ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32.
- Ромодановская Е. К. К вопросу о выборе деловой формы в литературных сочинениях//Литература и документ: Сб. науч. тр./Под ред. Е. К. Ромодановской. Новосибирск, 2011. 178 с.
- Симеон Полоцкий. Избр. соч./Подгот. текста, ст. и коммент. И. П. Еремина. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953 (Серия «Литературные памятники»). 293 с.
- Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856.
- Стенникова П. А. Церковно-театрализованные действа в России XVI-XVII вв.: на примере «Пещного действа» и «Шествия на осляти» в Вербное воскресенье: Дис.. канд. ист. наук. Челябинск, 2006. 271 c.
- Ужанков А. Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных формаций. М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2011. 512 с.
- Урядник сокольничья пути//«Изборник» (Сборник произведений Древней Руси)/Сост. М. А. Салмина. М.: Худож. лит., 1969. 800 с.
- Успенский Б. А. История и семиотика//Успенский Б. А. Избр. тр.: В 3 т. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. Т. 1. 608 с.
- Шунков А. В. «Урядник сокольничья пути» как памятник русской художественной культуры середины XVII века. Кемерово: Арф, 2007. 70 с.
- Шунков А. В. Жанр послания в русской литературе XVII века (на материале эпистолярного наследия царя Алексея Михайловича). Кемерово, 2006. 97 с.