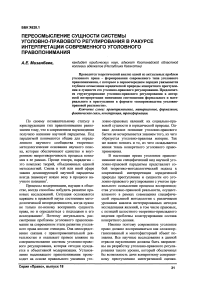Переосмысление сущности системы уголовно-правового регулирования в ракурсе интерпретации современного уголовного правопонимания
Автор: Мизанбаев Аман Елеусизович
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Статья в выпуске: 19 (152), 2009 года.
Бесплатный доступ
Проводится теоретический анализ одной из актуальных проблем уголовного права - формирования современного типа уголовного правопонимания, с которым в первоочередном порядке увязывается глубокое осмысление юридической природы конкретного преступления и сущности его уголовно-правового регулирования. Предлагается структурирование уголовно-правового регулирования в авторской интерпретации понимания соотношения формального и материального в преступлении в формате «воспроизводства уголовно-правовой реальности».
Правоприменение, материальное, формальное, фактическая связь, конструкция, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/147149419
IDR: 147149419 | УДК: Х628.1
Текст научной статьи Переосмысление сущности системы уголовно-правового регулирования в ракурсе интерпретации современного уголовного правопонимания
По своему познавательному статусу в юриспруденции тип правопонимания равнозначен тому, что в современном науковедении получило название научной парадигмы. Под парадигмой понимаются общие для определенного научного сообщества теоретикометодологические основания научного поиска, которые обеспечивают единство и внутреннюю непротиворечивость процесса познания в ее рамках. Проще говоря, парадигма -это комплекс теорий, объединенных единой методологией. Смена в той или иной сфере знания доминирующей научной парадигмы всегда знаменует новую веху в процессе научного познания1.
Процессы модернизации, идущие в обществе, всегда способны побудить развитие правовых исследований. Ситуация осложняется царящим в правовой науке состоянием методологической неопределенности, когда нужно не только по-новому воспринять сущность права, но и определиться с подходами к его исследованию2. Поэтому актуальность рассмотрения проблемы уголовного правопонимания на современном этапе развития уголовного права вполне очевидна. Она непосредственно связана с правоприменительной деятельностью и оказывает прямое влияние на совершенствование системы уголовно-правового регулирования, которая сегодня нуждается в объективной модернизации. Установление надлежащего правопонимания происходит на основе правильного уяснения уго ловно-правовых явлений: их социально-правовой сущности и юридической природы. Однако должное познание уголовно-правового бытия не исчерпывается знанием того, из чего образуется уголовно-правовая материя. Так же важно познать и то, из чего складывается живая ткань конкретного уголовного правоприменения.
В настоящее время уголовное правопо-нимание как специфический вид научной уголовно-правовой парадигмы представляет собой теоретико-методологический подход к современной интерпретации юридической природы преступления и сущности его уголовно-правового регулирования с учетом правильного осмысления процесса воспроизводства уголовно-правовой реальности, осуществляемого в рамках совмещения специфической отраслевой методологии с различными уровнями анализа интегрированных методов исследования явлений, в том числе правовых, с позиций целостного теоретико-прикладного видения проблемы конструирования состава конкретного деяния.
Именно поэтому современное уголовное право должно восприниматься как сложноорганизованный и многофакторный объект познания. Все научные исследования в данной отрасли наукознания должны быть направлены на разработку уголовно-правового регулирования такого уровня, который обеспечивал бы возможность дачи конкретному совершенному преступлению интегративной оценки.
Дело в том, что с точки зрения современного осмысления сущности отраслевого регулирования уголовное право должно восприниматься в виде нормативной области существования комплексных семиотических образований (формально-определенной надстройки уголовно-правовой материи) и одновременно в виде интегрированной системы методов различных уровней, обеспечивающих универсализированный подход в построении уголовно-правового закона в действии, т.е. оформлении установленного генезиса материализации и функционирования уголовно-правового бытия.
В ракурсе этого современное направление интеграционных усилий в сфере развития уголовного права приходится на разработку обоснований внедрения взаимосвязей и взаимопомощи в рамках междисциплинарного общения между философией уголовного права и общей философией права, философией уголовного права и феноменологией, герменевтикой, деконструкцией. Дело в том, что реализация в уголовно-правовом регулировании новейших приемов общесоциологического уровня в исследовании преступлений качественно изменит существующий уровень уголовного правоприменения.
В силу активного взаимодействия права с общей материей социокультурного пространства, на наш взгляд, вполне осуществима и приемлема экстраполяция подходов в понимании роли знаков и символов в уголовноправовую сферу и прежде всего в плоскость определения новой методологической ориентации правового регулирования уголовного правоприменения. Дело в том, что вся имеющаяся и развивающаяся правовая «надстройка» уголовного права и есть ничто иное, как определенная нормативная область существования комплексных семиотических образований: формально-опре-деленная регламентация установлений уголовного закона (институциональное оформление уголовно-правовых норм). Соответствующий подход в таком понимании объективно создает помимо прочего необходимость реализации в исследовании преступления новейших приемов, которые представляют собой методы познания философского (общесоциологического) уровня, таких, как герменевтика, деконструкция. Именно в них раскрываются пределы человеческого мышления, сводимого к реализации его познавательного потенциала, заключающегося в доступе к возможностям дополни тельного познания действительности путем расширения использования мыслительных операций в плоскости опредмеченного опосредования.
Отрицание возможности указанной экстраполяции безусловно наносит ощутимый урон и теории, и практике уголовного права. В частности, вместо назревшей дискуссии об определении новой методологической ориентации в исследовании преступления с учетом понимания разрешения в нем соотношения формального и материального в рамках его должного структурирования и т.д. ведется малопродуктивная дискуссия, суть которой сводится в основном к обсуждению вопроса о подходе к нормативному регулированию преступления по-прежнему с общих формальноюридических (догматических) позиций, где имеющиеся позитивные разработки остаются в большей степени лишь продекларированными.
В связи с этим подробнее остановимся на правовой природе соотношения материального и формального в понятии преступления, так как правильное разрешение этого вопроса напрямую сопряжено с осмыслением уголовного правопонимания. Однако прежде чем приступить к данному анализу, необходимо сделать существенную оговорку, касающуюся учета «порядка последовательности» в исследовании важнейших правовых явлений. Не секрет, что возникающие в рамках движения общей материи разного рода противоречия в развитии тех или иных явлений устраняются либо диалектически, либо путем конструирования такого соотношения, при котором они достигают взаимного сочетания с той или иной соотносимой субстанциональностью и таким образом разрешаются. Само сочетание как материальный процесс упорядочения различного рода связей в природе является антиподом их стихийного, хаотичного существования. В этом плане социальная необходимость упорядочения внешних и внутренних связей правового явления продиктована взаимозависимостью и взаимосвязанностью всего сущего в природе. Ее уяснение требует прежде всего осознания значения последовательности в осмыслении, в частности, уголовноправовых феноменов.
Раскрытие правовой сущности соотношения «формального и материального» в преступлении мы увязываем с уяснением правовой природы уголовного правоотношения, а именно специфики его возникновения, изме- нения, прекращения, установления. Применительно к уголовному праву здесь вполне возможно использовать концепцию правоотношения, разработанную в общей теории права. Фактическая реализация преступления и есть его материализация в реальной действительности в содержании опосредованного криминального (общественного) отношения. Если мы имеем в природе подобное материальное образование, то его можно определить как конструкцию фактического состава преступления, признаки которого и есть фактические обстоятельства его совершения.
В этой ситуации резонно возникает по крайне мере два важных вопроса: почему мы относим данный состав к разновидности конструкции, а саму конструкцию определяем как юридическую? Ответ на них не будет сложным. Во-первых, фактический состав преступления определяется как разновидность конструкции ввиду того, что он реально существует в системе других аналогичных конструкций общего юридического состава преступления, выявляемых и исследуемых в результате трансформации основного состава в процессе его конкретизации. Во-вторых, этот состав существует в форме юридической конструкции, так как формально строится только на основе и в пределах юридической нормы.
Применительно к рассматриваемой уголовно-правовой проблематике заслуживают внимания рассуждения исследователей в области общей теории права.
Так, В.Б. Исаков пишет: «Не вызывает сомнений, что фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение, следует изучать в тесной связи с нормами права, которые на эти обстоятельства указывают. Но в какой форме теоретически выразить эту связь? На наш взгляд, наиболее правильный путь - признать двойственный характер юридических фактов. Раскрыть функции юридических фактов и фактических составов, их взаимосвязь, показать их динамику в правоотношении можно только на основе материально-юридического понимания категорий «юридический факт» и «фактический состав». При этом необходимо подчеркнуть, что речь идет о понятии юридического факта. Явления действительности в реальной жизни и их отражение в праве - разные вещи, смешивать которые недопустимо. Однако понятие может охватывать оба эти момента. Более того, «юридический факт» - далеко не единствен ное материально-юридическое понятие в науке»3.
«Правоотношение, - отмечает P.O. Халфина, - будучи реализацией нормы, представляет собой вместе с тем и правовую форму конкретного общественного отношения. Сочетание этих моментов - ключ к пониманию места правоотношения в системе правового регулирования. Такие категории, как правоотношение, юридический факт, фактический состав, правосубъектность, субъективное право, юридическая обязанность, правонарушение, могут плодотворно изучаться только в том случае, если они понимаются в единстве материального и юридического моментов. Именно в этом находит выражение один из важнейших методологических принципов юридической науки - неразрывный анализ юридической формы и материального содержания общественных отношений»4.
В связи с этим в основу фактического состава конкретного деяния могут быть положены только такие фактические обстоятельства, которые имеют юридическое значение для объективно складывающейся области общественных (уголовно-правовых) отношений по поводу совершения преступления. В юридическую конструкцию фактического состава преступления они входят как обязательные юридически значимые его признаки. На основании этого мы считаем, что именно момент правовой трансформации (перехода) тех или иных установленных по делу фактических обстоятельств (правового сырья) в разряд юридически значимых признаков, а затем привлечение последних (уже в качестве строительного материала) к построению (возведению) юридической конструкции являются моментом чисто научного толка. Возникает вопрос: по каналу какой связи происходят указанные переходы, суть которых состоит в вычленении юридически значимых признаков - обязательных признаков создаваемой видовой конструкции состава преступления? Именно этот вопрос, поставленный В.Б. Исаковым и обозначенный им как открытый, остается таковым по сей день.
Однако указанные и многие другие исследователи - представители отраслевых юридических наук - при познании генезиса права и правоприменения в рамках извечных проблем «де-юре» и «де-факто» соотношения в правоотношении формального и материального, идеального и реального, юридического и фактического, как говорится, из-за деревьев не увидели леса. Так, на вопрос, по какому каналу идет упорядочение всего многообразия связей, возникающих на пути регулирования правового явления с учетом его проявлений в действительности, мы отвечаем: по каналу фактической правовой связи! А если говорить конкретно, то по каналу прямой фактической (генерирующей) и обратной юридической (трансформирующей) связи. Именно поэтому процесс познания преступления изначально представляет собой последовательное познание и конкретизацию связей обстоятельств совершения преступления, вычленяемых по искомой юридической значимости и образующих в своем логическом сцеплении звенья (ячейки прямой и обратной связи), составляющие причинно-следственный механизм совершения преступления.
В дальнейшем уголовно-правовом регулировании на основе осмысления генезиса связей, характеризующих материализацию конкретного преступления, конкретизируются содержание и форма отношения (криминального), возникающего по поводу совершения преступления. Сам процесс конкретизации преступления должен осуществляться в уголовно-правовом регулировании до границ, указывающих на реальную самодостаточность исчерпания содержания уголовной ответственности в пределах установленной истины по делу. Поэтому вызывает сомнение то, что фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение, следует изучать только в тесной связи с нормами права, которые на эти обстоятельства указывают.
Действительно, такую связь необходимо учитывать, но она должна пониматься в уголовно-правовом регулировании как чисто формальная (догматически вполне мыслимая) в плоскости юридического совпадения понятия преступления (уголовно-правовая норма) и структуры общей нормативной конструкции состава деяния (диспозиция статьи уголовного закона).
Таким образом, существуя и функционируя на основе и в пределах соответствующей ей нормативно-правовой конструкции (своей матрицы), образовавшаяся юридическая конструкция фактического состава преступления соотносится с ней через устанавливаемый канал формальной (юридической) связи. Последний представляет собой своеобразный «кабель», простое соединение, посредством которого осуществляется связь формы и содержания конструкций как взаимопроизвод- ных видовых структур составов конкретного деяния. Такого характера связь со всей очевидностью можно назвать формальной, и тем самым вопрос о правовой форме закрепления того или иного состава преступления не может быть главным в правоприменении. И в самом деле, на практике это, по сути, участок правоприменительных действий примитивного характера, что позволяет относиться к этому моменту в теории и практике уголовного права как к само собой разумеющемуся. В такой форме рассматриваемую связь составов по критерию структурной нормативности теоретически можно выразить как идеальную.
Однако раскрыть функции фактических обстоятельств, а на их основе - правовую природу фактического состава преступления, показать их взаимосвязь в динамике соответствующего правоотношения можно только на основе материального понимания правовой природы преступления. При этом необходимо помнить, что речь идет о том, что преступление как понятие и как явление есть разные субстанциональные категории. Явления действительности в реальной жизни и их отражение в праве - разные вещи, смешивать которые недопустимо. Смешения понятий в праве быть не должно, так как это приводит, по нашему мнению, в конце концов к размыванию его смысла. Ввиду этого (с учетом фактора времени) говорить о том, что какое-либо правовое понятие может охватывать оба эти момента (формальное и материальное), как минимум, некорректно, так как «может» вовсе не означает, что «должно». По нашему мнению, точность правового воздействия определяется точностью правового понимания. Корни познания и разрешения данного вопроса ведут к пониманию основного вопроса права - о его сущности. В связи с этим сегодня в уголовно-правовой доктрине важно не объяснять существующую практику уголовного правоприменения признанием различных дихотомий в понятийной терминологии тех или иных категорий, а изменять (реально совершенствовать) систему уголовно-правового регулирования вопреки идеализации отправных начал нормативной, и в этом отношении ограниченной, плоскости регулирования преступления.
Данный простой при выявлении и уяснении момент как раз и представляет собой узел проблем уголовного права: соотношение формального и материального, идеального и реального, должного и сущего, в конце кон- цов, юридического и фактического в понятии преступления и его регулировании. Он как бы ускользает от внимания исследователей, оставляя открытыми вопросы теории и практики уголовного правоприменения. Г.П. Новоселов отмечает, что в понятии правоотношения, как впрочем и любого общественного отношения, поведение (фактическое или должное) не может не представлять интереса5. Следует вместе с тем подчеркнуть: далеко не все, что выступает частью общественного отношения, есть его элемент. Элемент - это то, что способно к отдельному, самостоятельному существованию в рамках единого целого; он может выступать в качестве носителя некоторого рода признаков, свойств, но не являться ими как таковыми. Конечно, представления о всякой структуре условны, но и условность должна иметь какие-то границы. Признавать иное, значит, выходить за допустимые рамки условности и в конечном счете идти по пути гипостазирования, т.е. наделения признаков, свойств чего-либо самостоятельным существованием, рассматривать их в отрыве от носителей6.
Между тем через канал фактической правовой связи фактические обстоятельства (признаки) совершенного деяния «участвуют» в образовании конструкции фактического состава преступления. Необходимо отметить, что конкретизация данного вида состава происходит на основе не простой совокупности криминообразующих признаков, а только на базе составообразующих признаков, отражающих конкретную обстановку совершения преступления. В этом случае резонно возникает вопрос: что характеризует названный нами канал фактической правовой связи? Во-первых, он выражает связь между фактически совершенным деянием и уголовно-правовой нормой, в том числе диспозицией статьи закона (составом преступления), но связь иного характера, которая предполагает иную плоскость уголовно-правового регулирования: выявление и установление иных, отличных от нормативного состава преступления, признаков состава конкретного деяния. Во-вторых, что самое главное, по своей природе данная связь представляет собой материальное соотношение фактически совершенного преступления с конструкцией соответствующего конкретного деяния, находящегося в режиме уголовно-правового запрета. В-третьих, в такой форме рассматриваемую связь соотношения составов теоретически и практически можно выразить как реальную.
По мнению И.Л. Честнова, «диалогическая антропология права основное внимание уделяет (должна уделять) процессу воспроизводства правовой реальности - механизму внесения инновации в существующие традиции и их превращения в многократно повторяющееся поведение. В связи с этим правовой институт представляет собой механизм воспроизводства (включающий как традиционный, так и инновационный аспекты) структуры, осуществляемый конкретными индивидами. Субъект права с этой точки зрения предстает в виде структуры - правового статуса и носителя статуса, конкретного человека, своими действиями его реализующего. В этом суть диалога инновации и традиции, структуры и действия, статуса и личности. «Человеческое измерение» должно присутствовать и при изучении уже сложившихся правовых институтов. Трансцендентным критерием правового института является его функциональная значимость, проявляющаяся как эффективность, т.е. его роль по отношению к социальному целому. Имманентным показателем правового института, конкретизирующим трансцендентный критерий, выступает его распространенность, многократное использование широкими народными массами, позитивная оценка правосознанием. В этой связи принципиально важно изучать «неформальное» право, дополняющее (скорее, пересекающееся) позитивное право, а также его образ в правосознании (теоретическом, профессиональном, обыденном)»7.
Действительно, элементарная логика, вытекающая из азов общей теории права, говорит о том, что норма права есть правило поведения общего характера. В ее общепринятой дефиниции раскрывается смысл определенной формы опосредованного выражения предмета правового регулирования. В научном мире, в том числе юридических науках, общепризнанно, что в природе каждое явление в своем развитии индивидуально. В отношениях криминального типа по поводу совершения преступления имеет место огромное многообразие вариаций актов человеческого поведения, которые всякий раз при различных обстоятельствах разнохарактерно нарушают установленный уголовно-правовой запрет.
К сожалению, эти, на первый взгляд, простые истины, являющиеся отправными точка- ми в должном понимании одного из важнейших методологических принципов юридической науки - неразрывного анализа юридической формы и материального содержания общественных отношений - либо остаются без должного внимания теоретиков и практиков уголовного права, либо их изучение носит фрагментарный характер, а обосновываемые при этом те или иные положения по данной причине отчасти декларативны. С практической точки зрения отсутствие единообразного понимания, с одной стороны, формального значения правовой условности содержания уголовно-правовой нормы, а с другой - инструментального значения реального уголовного правоприменения оказывает негативное влияние на достижение эффективности уголовно-правового регулирования. В этом ключе ВТ. Графский верно замечает, что современное представление о комплексной структуре не только правоотношений, но и самого «атомарного» его компонента - правовой нормы - наводит на мысль о крайней затрудненности обсуждения вопроса об измеримости и направленности социальной эффективности отраслевого правового регулирования и социальной роли права в целом8.
В силу сказанного на вопрос о том, как складывается живая ткань уголовного правоприменения, смеем ответить следующим образом.
В современном уголовном правоприменении для того чтобы правильно идентифицировать совершенное преступление с различением характера и степени его индивидуальной общественной опасности, недостаточно простого сопоставления его установленных признаков с теми признаками, которые описаны в соответствующей уголовно-правовой норме, и его исследования только в рамках данной направленности, подпадающей под понятие формального регулирования. Дело в том, что в уголовном правоприменении архиважно определять существо этих признаков как отличительных и уметь вычленять их различия от конструктивных признаков нормы для выявления их как составообразующих и в этом смысле обязательных для построения конструкции конкретного преступления. Подобное объясняется тем, что правовая норма содержит общую правовую характеристику преступления, раскрывает его общенормативную структуру при нахождении его, так сказать, в состоянии «покоя» - статике. Реальное же регулирование конкретного преступления предполагает обратную связь: правильное подведение уголовного закона (уголовноправовой нормы) под конкретный «криминальный случай».
Вот именно этот момент, на наш взгляд, и является отправным для переосмысления существующей системы уголовно-правового регулирования. Он заключается в обосновании внедрения в эту систему возможности состязательного (не произвольного и не избирательного) усмотрения свободного построения конструкций (конструирования) составов конкретного преступления. Данный подход во избежание декларативности закономерно предполагает модернизацию механизма уголовно-правового регулирования и нуждается в надлежащем институциональном оформлении в уголовном праве. Ценность данной идеи состоит в том, что при ее реализации современное уголовное правоприменение приобретет истинно творческое инструментальное значение.
«При применении права общие правила (законы, которые всеобщи) раскрываются лишь в связи со своеобразными, подчас неповторимыми жизненными обстоятельствами. Вот почему правоприменительный орган обязан толковать закон применительно к отдельному случаю»9. В этом специфическом раскрытии всеобщего закона применительно к данным конкретным обстоятельствам, осуществляемом в соответствии с требованиями законности, и выражается прежде всего творческий характер применения права10.
В этом плане современное уголовное пра-вопонимание помимо прочего должно охватывать собой разработку такого важного в правореализационном процессе толкования (отличного от других его уровней), как правоприменительное толкование конструирования составов конкретного преступления: уяснение генезиса связей, представляющих фактическую основу развивающегося (изменяющегося, прекращающегося либо устанавливающегося) общественного отношения по поводу нарушения уголовно-правового запрета и интерпретацию рационального типа разрешения уголовной ответственности в соответствии с общепринятым (заданным) смыслом уголовно-правового регулирования.
В ракурсе этого, как верно отмечает С.С. Алексеев, «правовая квалификация - это сложная, длящаяся деятельность, которая охватывает разнообразные правоприменительные действия, связанные с установлением об- стоятельств дела, выбором нормы, ее толкованием, вынесением решения. Вместе с тем главным в правовой квалификации является нахождение точной юридической конструкции для рассматриваемых отношений, а затем конкретной нормы»11.
По нашему мнению, отдельные правовые плоскости (уровни конкретизации (регулирования) юридической условности и формы ее правового выражения) уголовно-правового регулирования возникающих и развивающихся уголовных правоотношений и являются различными точками отсчета в исследовании преступления. Критерием разграничения в подходах к изучению преступления является простое знаковое открытие в теории и практике уголовного права - уяснение разницы между содержанием уголовно-правовой нормы (установлениями условного характера) и содержимым уголовно-правового запрета (многообразием связей «типических характеров» при соответствующих «типических обстоятельствах» отношения).
Осмысление указанных стратегических моментов открывает путь к осознанию значения последовательности структурирования институциональных связей важнейших уголовно-правовых явлений: формально-идеальных и материально-реальных образований (конструкций составов) через уяснение таких средств познания, как «символ» и «знак», в диалектике понимания и объяснения текста, а также понимания и интерпретации социального действия. И не случайно каждый новый виток в развитии уголовного права охарактеризован новацией в его институциональном оформлении.
В настоящее время проблема уголовного правопонимания и прежде всего уголовного правоприменения остро стоит на повестке дня. От правильности ее разрешения зависит «судьба» одной из важнейших практических проблем уголовно-правового регулирования -осуществление в отраслевом регулировании последовательной интерпретации и достаточного обоснования уголовной ответственности.
Таким образом, на основе понимания природы отношений, возникших по поводу совершения преступления, строится о смысле-
Переосмысление сущности системы ________ уголовно-правового регулирования... ние соотношения формального и материального в конкретном деянии и устанавливается правильная интерпретация последовательного структурирования конструкции конкретного деяния. Одним словом, принципиально важно не просто зафиксировать эти модусы бытия права (идеальное и реальное, сущее и должное и т.д.), но показать, как происходит воспроизводство правовой реальности12.
С уяснением в контексте настоящей статьи сущности уголовного правопонимания мы увязываем правильное осмысление модернизации системы уголовно-правового регулирования, суть которой заключается в правильной интерпретации рационального типа конструирования уголовного закона - построения конструкций составов конкретного преступления в целях самодостаточного разрешения уголовной ответственности.
В заключение отметим, что только руководствуясь разумными началами права и накопленным опытом в понимании его сущности, учитывая все новейшие приемы исследования правовых явлений, можно познать многообразные связи правовой материи, а также то, как конструируется уголовное правоприменение в конкретном криминальном случае.
Список литературы Переосмысление сущности системы уголовно-правового регулирования в ракурсе интерпретации современного уголовного правопонимания
- Социологическая энциклопедия: в 2 т. М., 2003. Т. 2. С. 144.
- Графский В.Г. Интегративная юриспруденция в условиях плюрализма подходов к изучению права//Сб. науч. ст. Саратов, 2008. С. 12.
- Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. Саратов, 1980. С. 12.
- Халфина P.O. Методологический аспект теории правоотношения//Советское государство и право. 1971. № 10. С. 25.
- Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. М., 2001. С. 34.
- Честнов И.Л. Антропологическая онтология права//Проблемы понимания права. Саратов, 2007. С. 28.
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 67.
- Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2008. С. 549.