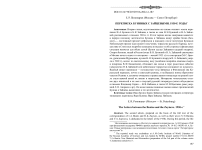Переписка Буниных с Зайцевыми. 1930-е годы
Автор: Пономарев Евгений Рудольфович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
Вторая статья, подготовленная на основе полного текста переписки И. А. Бунина и Б. К. Зайцева, а также их жен В. Н. Буниной и В. А. Зайцевой, рассказывает о письмах 1930-х гг. В этот период жизнь эмиграции меняется: в первую половину десятилетия Бунины и Зайцевы живут крайне бедно (бедность - постоянный предмет рефлексии в письмах); после получения Буниным Нобелевской премии (сам момент получения, торжество русского Парижа, путешествие в Стокгольм подробно освещены в письмах «в обе стороны») финансовая ситуация меняется для обеих семей (Бунин сделал Зайцевым щедрый подарок). Смерти близких людей в России (отцы В. Н. Буниной и В. А. Зайцевой скончались в Москве почти в одно и то же время - весной 1933 г.) и в эмиграции (М. С. Брюан, урожденная Муромцева, кузина В. Н. Буниной и подруга В. А. Зайцевой, умерла в 1930 г.), коллег по писательскому цеху (особенно подробно описаны смерть и похороны В. Ф. Ходасевича), сближают две семьи в горе; радостные события (замужество Н. Б. Зайцевой или нобелевские торжества) соединяют их в радости. Важный сюжет переписки - путешествие четы Зайцевых в Финляндию (на Карельский перешеек, почти к советской границе, и на Валаам): вновь обретенное чувство Родины и духовное очищение в православном монастыре на родной земле стали важной вехой их жизни и творчества. Интересны читательские отзывы двух писателей и их жен о текущей русской литературе (много обсуждается в письмах Владимир Сирин - В. В. Набоков, а также М. И. Цветаева, рано умерший Л. Н. Андреев и др.). Не менее важны взаимные оценки новых произведений Бунина и Зайцева, вышедших в это десятилетие.
Иван бунин, борис зайцев, русская эмиграция, литература эмиграции, переписка, вера бунина, вера зайцева, набоков
Короткий адрес: https://sciup.org/149140224
IDR: 149140224 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-187
Текст научной статьи Переписка Буниных с Зайцевыми. 1930-е годы
Переписка И. А. и В. H. Буниных с Б.К. и В. А. Зайцевыми готовится к публикации в ПО т. «Литературного наследства». Она будет впервые опубликована в полном объеме (корпус всех сохранившихся писем) с исчерпывающим научным комментарием. В 2021 г. в «Новом филологическом вестнике» появилась статья, рассказывающая об основных темах этой переписки за 1920-е гг. [Пономарев 2021]. Настоящая статья продолжает рассказ о важнейшей писательской переписке русской эмиграции, прослеживая развитие переписки в следующем десятилетии. Жизнь всех эмигрантов существенно меняется за 1930-е гг: меняется жизнь Буниных — особенно после получения И. А. Буниным Нобелевской премии по литературе, меняется и жизнь Зайцевых. Основные темы переписки писателей и их жен позволяют по-новому осветить некоторые биографические моменты, восстановить творческий диалог двух основных писателей эмиграции, а также осознать специфику быта, внутреннее богатство и разнообразие культуры первой волны эмиграции в 1930-е гг.
К рубежу 1920-х-1930-х гг. формируется необычная бунинская семья: Г. Н. Кузнецова и Л. Ф. Зуров становятся «детьми» Буниных и общепризнанными парижской публикой учениками мэтра (Зайцев именовал Бунина этим словом с начала 1920-х гг), Н. Я. Рощин же домашним человеком для Буниных так и не стал.
В. Н. Бунина с интересом наблюдает за тем, как складываются отношения у «детей». Зуров и Рощин все время «цапаются» (письмо к В. А. Зайцевой от 3 января 1930 г): Рощин третирует Зурова свысока, а тот не про-

является почтения. С Галиной же Зуров дружит. В том же письме Вера Николаевна делится своим пониманием роли хозяйки дома: «Главная моя забота теперь, чтоб в доме была легкая атмосфера, жить с четырьмя писателями это не фунт изюма!». В начале 1930 г. Кузнецова едет в Париж оформлять развод с мужем: В. Н. Бунина сообщает об этом В. А. Зайцевой с деловой озабоченностью, рядом с бытовыми деталями, включающими покупку шубки для Галины. Зимой 1931 г., а затем и в 1932 г. в переписке продолжаются темы писательского общежития:
Весь Бельведер [вилла в Грассе, которую снимали Бунины. — здесь и далее примечания Е.П., если не указано иначе] много читает. Молодежь, написав свои вещи, временно отдыхает от творчества и учится. Ян [так, на польский манер, Вера Николаевна постоянно называла мужа] чувствует себя очень тяжело. Не по нем жизнь безвыездно, без людей. Ему скучно. А писать он может, когда его душа играет, а где взять игры, когда одни заботы (письмо к В. А. Зайцевой от 11/24 февраля 1932 г).
Безденежье, экономия практически на всем (в начале 1930-х гг. прекратились выплаты русским писателям от правительства Чехословакии; королевство Югославия, тоже платившее «пенсии» русским эмигрантам, сократило выплаты почти наполовину) соединяются с напряженной творческой работой — таков быт и Зайцевых, и Буниных до получения Нобелевской премии. Летом 1932 г. В. Н. Бунина рассказывает, что Лёня и Галя устроили перед виллой огород: «Осенью посадят картошку, тогда зимой будем на ней сидеть в случае безработицы. У нас уже зреют томаты, салат готов, растут огурцы, баклажаны, будет своя морковь, репа, navet [разновидность репы, фр.], редька; редиску мы всю съели» (письмо В. А. Зайцевой от 10 июля 1932 г). Зайцевы пишут в ответ, что очень хотят выехать из Парижа на море, но денег так мало, что об этом нельзя даже и думать. 24 августа 1932 г. В. Н. Бунина сообщает подруге: «Я правда обносилась так, как даже в Сов<етской> России не была». А 18 октября 1932 г. пишет: «[А] живем мы так скромно, как никогда не жили, каждый день сокращаемся и сокращаемся». В. Н. Буниной нужно отправить деньги в Москву, чтобы хоть как-то помочь отцу, а посылать совершенно нечего.
Сильно сближают подруг смерти близких. 3 декабря 1930 г. в Париже в результате неудачно сделанной операции скончалась кузина В. Н. Буниной Мария (Маня) Сергеевна Брюан (урожденная Муромцева). 6 декабря Вера Николаевна пишет В. А. Зайцевой письмо, полное воспоминаний детства: «[М]ысленно предо мной вставало Царицыно: Маня, Оля [О. С. Муромцева, сестра М. С. Муромцевой-Брюан, вторая кузина В. Н. Буниной], ты в красном картузике (Беатрича, как тебя звал дядя Доля [Адольф Штраус, дядя В. А. Зайцевой]). И думала, что Маня все же тебе была самый близкий человек здесь и по крови, и вообще вся жизнь в младенчестве прошла рядом, да и теперь близко соприкасались».
5 марта 1933 г. в Москве умрет Н. А. Муромцев, отец Веры Никола- евны. Незадолго до этого Зайцевы получили известие из Москвы, что у А. В. Орешникова, отца В. А. Зайцевой, обнаружен рак кишечника. Он скончался чуть позднее — 4 апреля 1933 г. Обе Веры вместе переживают общее горе: их родители были дружны.
Мысли о родных, оставшихся в России (желание как-то найти деньги, чтобы послать им) приводят В. Н. Бунину к поиску благотворителей. Со временем она будет все больше времени отдавать этой работе. Пока же она думает о том, кого из богатых эмигрантов можно попросить о денежной помощи друзьям и родственникам, оставшимся в Москве. К концу десятилетия, предлагая устроить сбор денег для больной и несчастной Тэффи (много лет та преданно ухаживала за тяжело больным мужем — П. А. Тикстоном, до его смерти в 1935 г, ее собственное здоровье тоже было подорвано; В. А. Зайцева периодически рассказывает в письмах из Парижа, писанных на юг, как она навещает Тэффи), Вера Николаевна уже уверенно дает советы, как это лучше организовать.
Как и в 1920-е гг, Бунин и Зайцевы вместе переживают смерти близких им литераторов. В 1932 г. в переписке обсуждаются смерть Саши Черного и М. А. Волошина, о последнем В. Н. Бунина замечает: «Очень жаль Волошина, мы с ним пережили вместе весну в Одессе и очень сблизились». Речь идет о весне 1919 г. Эта фраза объясняет, почему И. А. Бунин (неожиданно для многих) отозвался на смерть Волошина большим очерком-некрологом, а в конце жизни включил главу об этом поэте в книгу «Воспоминания». В конце 1930-х гг. таким же общим переживанием станет смерть В. Ф. Ходасевича. В письме от 20 июня 1939 г. Б. К. Зайцев рассказывал Бунину о смерти выдающегося поэта и критика: «Знали, что тяжело болен, все-таки такого “мгновенного” конца не ждали. Слава Богу, он ушел не в злобе, очень помягчел, вообще, сдвинулся... Подарил нам с Верой “Некрополь” [свою книгу литературной критики] — “Зайцевым с любовью и благодарностью”: — каково?»; о погребении Ходасевича: «На похоронах все были, за искл<ючением> Шмелева и Муратова. В воскресенье на панихиде в ряд стояли три его жены». Завершал рассказ вид на кладбище: «Могила почти видна из моего окна. Вообще, это кладбище Thiers становится каким-то некрополем близких: Барановская [известная актриса умерла в 1935 г], Шестов [философ умер в 1938 г; он был родным человеком и для семьи Буниных], Ходасевич — очень трудно и грозно подумать, что вот он там сейчас...». Последнее предложение звучит совершенно по-бунински; разве что жить рядом с кладбищем Бунин никогда бы не согласился.
Объединяют Буниных и Зайцевых и большие человеческие радости. 6 марта 1932 г. дочь Зайцевых Наталья вышла замуж за А. Б. Сологуба. Бунины из-за безденежья чуть не круглый год жили на юге и не смогли быть на венчании в Париже. Вся свадьба проходит перед нами в переписке. Показательно нежное и необычно длинное письмо Бунина к Зайцеву от 15 марта 1932 г:

Дорогой Борис, мы о Наташе думали и говорили все те дни очень много, в день свадьбы по часам следили мысленно за ней... Искренне счастливы, что все там хорошо было! Да благословит ее Бог и впредь. Очень благодарим тебя и Веру за подробные письма. Твое письмо, кроме того, истинно прекрасно. Ты меня им вообще ужасно тронул, я, читая его, почувствовал особенно всех вас родными нам. С этим чувством и обнимаю тебя, дорогой, равно как и Веру и Наташу.
В первой половине 1930-х гг. в переписке двух Вер усиливается религиозная тема. В. А. Зайцева рассказывает В. Н. Буниной о службах в парижских церквях (Вера Николаевна, живя на юге, не имела возможности часто бывать в церкви), та в ответ пишет о духовных книгах (в том числе католических — вероятно, в силу ограниченного количества православной литературы), которые стала читать. Важный сюжет переписки связан со старшей сестрой Б. К. Зайцева Татьяной — «игуменьей» и очень духовным человеком, вносящим в жизнь Зайцевых «покой и свет» (из письма Б. К. Зайцева к И. А. Бунину от марта или апреля 1931 г). Она временами гостила у Зайцевых, Зайцевым же нравилось бывать у нее — в обители Нечаянной Радости в Сен-Жерме-де-Фли (St. Germer de Fly, деревня расположена между Руаном и Бовье, на север от Парижа). Летом 1934 г. она уехала к мужу в Польшу, где и умерла в 1938 г.
Религиозные произведения Б. К. Зайцева вызывают у Буниных живой отклик. Так, в начале 1933 г. И. А. Бунин очень хвалит небольшой текст «Около св. Серафима» (к столетию со дня кончины Серафима Саровского — эмигрантские историки церкви пишут о его исключительном значении в развитии русского православия — Зайцев напечатал в «Возрождении» специальный очерк). В письмах мелькают и указания В. А. Зайцевой на духовный рост мужа, его религиозные «сдвиги». Например, в письме от 21 мая 1936 г: «Он <Борис> растет, очищается как-то. На нем какой-то свет, хотя во “гресях” живет, как мы все, но... с ним какой-то сдвиг».
10 ноября 1933 г. вся семья Зайцевых (включая Н. Б. Сологуб) поздравляет Буниных с триумфом. Это письмо интересно тем, что отражает ту атмосферу ликования, которая воцарилась в русском Париже с присуждением премии русскому писателю-эмигранту:
Купил на всякий случай «Paris-Soir», которого терпеть не могу, уселся спокойно, не торопясь, развернул все свои газеты, надел очки —устроился прочно — и вдруг — бах, две строки гавасовой [информационное агентство «Havas»] телеграммы! Гарсон был удивлен, как я мгновенно проглотил кофе, расплатился, и едва запахнувшись, с ананасом под мышкой помчался по Av
16 ноября 1933 г. В. А. Зайцева пишет В. Н. Буниной (та приедет в Париж позднее):
Вчера встретили Ивана, и ужасно горько было, что ты не приехала вместе. Вся жизнь прошла у меня перед глазами. Когда вы собирались в кругосветное путешествие [имеется в виду весна 1907 г: совместная жизнь Бунина и В. Муромцевой началась с отъезда в путешествие по Средиземному морю]. Как он был влюблен, и как вы оба хороши были. Приезжай скорее. Все тебя ждут. Говорить не приходится, какой переполох был и какой восторг обуял всех, когда узнали, что Иван получил премию. Русские все чуть ли не целовались, гордились, и легче всем стало, что Русский Писатель как бы возвеличил бедных, обмордованных большевиками эмигрантов. Иван помолодел, растроган.
В декабре Вера Николаевна подробно пишет о чествовании в Стокгольме и возвращении обратно — через Германию (где Бунины будут го-

стить в Дрездене в семье Ф. А. Степуна, а Г. Н. Кузнецова познакомится с М. А. Степун, сестрой философа. Примерно через полтора-два года, после череды страданий и расставаний, отъездов и возвращений [см.: Пономарев 2014; Пономарев 2019, 261-297] Марга станет третьим представителем молодежи в бунинской семье). 14/27 декабря 1933 г. Вера Николаевна пишет подруге из Дрездена:
Да, это было, как любительский спектакль. Много шуму, волнений, приготовлений — сыграли, смыли грим, поужинали после него, и он канул в вечность. Так и тут: все прошло. И так это не похоже на то, как мы жили и как будем, верно, жить. И уже теперь снова стало все то же самое, только немного в улучшенном виде, да гораздо больше неприятностей — не привыкли еще без душевной боли отказывать в требованиях, которые уже превысили половину премии.
В том же письме Вера Николаевна делится своим страшным горем: 12 ноября 1933 г. в Москве ее брат Павлик покончил с собой. Она переживает это горе прямо во время нобелевских торжеств:
Я в Стокгольме сделала усилие и одеревенела, только иногда по ночам охватывала тоска, и я тихонько выскальзывала из нашей с Галей комнаты и проводила несколько часов в полутемном салоне, иногда писала, иногда подолгу смотрела в окно на огни, отраженные в воде, на темные тени дворца и других зданий... Проходили картины прежней жизни, столь не похожие на те, в которых я в то время принимала участие.
Вернувшись во Францию, Бунины снова большую часть года проводили на юге. О важных событиях в Париже они вновь узнавали из писем друзей. В первой половине 1934 г. Зайцевы пишут им о волнениях, боятся прихода к власти французских фашистов. В дальнейшем такие же опасения будут внушать выступления социалистов и коммунистов, победа на выборах Народного фронта, а в последние годы десятилетия — приготовление к войне и мобилизация. Из писем ясно, что Бунин подарил Зайцевым весьма приличную сумму — благодаря подарку уровень жизни Зайцевых тоже вырос. Так, летом 1934 г. они месяц прожили в Ницце, встречались с Буниными, наезжавшими из Грасса. Познакомились с М. А. Степун, впервые гостившей у Буниных. В письме от 22 июня 1934 г. В. А. Зайцева называет ее «своеобразной». Похоже аттестовала ее и В. Н. Бунина при первом знакомстве.
Дружба Бунина и Зайцева с этих лет становится «литературным фактом». 17 августа 1934 г. Б. К. Зайцев сообщает о своей постоянной характеристике (которая ему приятна), циркулирующей в публике: «Насколько прочно за мной была раньше кличка “акварелиста”, настолько я теперь “друг Бунина”».
Летом 1935 г. состоялось путешествие Зайцевых в Финляндию — сопоставимое по мировоззренческой трагической значимости (соединяю- щей большое счастье и большое горе) с поездкой Буниных в Стокгольм. Они поселились в поселке Келломяки (ныне Комарове), в нескольких километрах от советской границы. Эти места до революции были заселены петербургскими дачниками, с берега залива хорошо виден Кронштадт и советский берег Сестрорецка. Зайцевы переживают это путешествие как возвращение на Родину. Борис Константинович пишет Бунину 28 июля: «Встречены были чуть ли не с колокольн<ым> звоном. Здесь совсем другой мир! Наслаждаемся запахом русского леса. 13 лет не знал его». А Вера Алексеевна рассказывает подруге в письме от 22 августа:
Были два раза у границы. Солдат нам закричал: «Весело вам?». Мы ответили: «Очень». Он нам нос показал, а я перекрестилась несколько раз... Очень все странно и тяжко, что так близко Россия, а попасть нельзя. Но люди здесь очень, очень свои. Вообще, Россию чувствуешь, прежнюю.
Еще большим потрясением стало для них обоих посещение Валаамского монастыря, оставшегося на финской территории, — приобщение к традициям русской святости на прежней русской земле.
Интересны в этой переписке литературные оценки, выставляемые авторам настоящего и недавнего прошлого. В начале 1930-х гг. много обсуждается Владимир Сирин (В. В. Набоков) — молодая знаменитость зарубежной русской литературы. В письме от 3 января 1930 г. В. Н. Бунина рассказывает, что вечерами «Ян» читает вслух только что вышедший сборник «Возвращение Чорба», после чего дает очень точный прогноз:
Писатель очень интересный, надеемся, что с большим будущим. И войдет он в среду европейских писателей не как русский, которому удивляются, но которого все же считают чужим, а как свой, хотя Сирин и вышел весь из русской литературы, сочетав и все европейские «достижения».
В 1932 г. В. А. Зайцева расскажет в письме о вечере Сирина в Париже, который они с мужем посетили:
Он, конечно, талантливый очень... но что дальше? Теперь уже есть, но все-таки хотелось бы еще. <...> Глядя на него, не скажешь: «Братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое». <.. > Одним словом, он очень модерн. Но изящный, воспитанный и, я думаю, знает, «откуда ноги растут». Нам он очень понравился. Читал блестяще очень интересный отрывок. Народу было полным-полно [курсив автора. — Е.П.].
В 1938 г. Владимир Сирин вновь возникает в переписке—рядом с упоминанием Леонида Андреева. Удивление и интерес, преобладавшие в начале 1930-х гг, сменяются к концу 1930-х гг. (к этому времени Сирин уверенно занял место в первом ряду эмигрантских писателей) неприятием («кривляка» — письмо Зайцева Бунину от 11 декабря 1938 г.) и эстетиче-
ским отторжением. Ассоциация с Леонидом Андреевым не случайна: Бунин и Зайцев считают их писателями одного типа. Так, в письме от 12 ноября 1938 г. Зайцев размышляет:
Прочел я Андреева первый том <...> все-таки в общем говенноватисто. Ну, а Сирин? Вера на ночь вчера читала этого «Вальса» [пьеса «Изобретение Вальса», опубликованная в «Русских записках»] —в ярости. А я и читать не стану, с меня довольно его рассказа в «Р<усских> 3<аписках>» и опять «Дара». — Я нашел себе писателя по вкусу, апостол Павел. Этот писал действительно замечательно. Это тебе не Сирин.
Обнимаю тебя и очень люблю — и тебя, и твой дар, у тебя Божий дар, а не сирийский.
Бунин отвечает ему 16 ноября: «Андреев все-таки был большой талант. Но почти все нестерпимо выходило у него. А на некоторые вещи даже дивишься: самая лубочная, смехотворно-трагическая декламация». О Сирине он молчит, но понятно, что его мнение не отличается от мнения Зайцева.
К этой группе авторов В. А. Зайцева относит и М. И. Цветаеву (В. Н. Бунина была к ней более снисходительна). В 1933 г. Цветаева написала очерки «Дом у старого Пимена» (с посвящением «Вере Муромцевой» — те. Буниной). Вера Зайцева отзывается о них так: «Читала Цветаеву об Иловайских, что же, блестяще написано... но нельзя так ломаться. Я читала с огромным интересом, но иногда “промелькивало” в голове, попроще, попроще» [курсив автора. —Е.П.].
«Божий дар» Бунин и Зайцев неизменно видят в творчестве друг друга. 11 декабря 1938 г. Зайцев пишет Бунину о только что прочитанном новом рассказе:
«Поздний час» — прелестно, дорогой дядечка, очаровательно. Дедушка только что его прочел и разволновался. Сколько раз все писали лунные ночи, а тут все свежо, богато, сильно — и общий дух превосходен — и смерть, и вечность, и спиритуальность: одним словом, «как у нас в науке говорят» — высокая поэзия.
Весной 1939 г. Зайцев присылает в подарок Буниным только что изданную «Москву». В отличие от цветаевских очерков, эти очерки по-настоящему волнуют и Бунина и его жену. Вера Николаевна пишет Зайцеву (письмо от 26-27 марта 1939 г): «Очень ты взволновал меня — ведь многое было общим, хотя и жили не слитно». Бунин в ответ посылает Зайцеву вышедшую отдельной книгой «Лику».
Дружба двух семей, значительно усилившаяся в эмиграции, достигает почти родственной близости к концу 1930-х гг. (письмо Б. К. Зайцева от 18 октября 1838 г. позволяет уточнить год, с которого началось их знакомство с Буниным: 1902 г). Кажется, что Бунины и Зайцевы практически обо всем думают и все чувствуют одинаково. Это пик их многолетней дружбы. С началом войны общение между ними станет не таким интенсивным, по окончании же войны начнется совсем иная эпоха.
Список литературы Переписка Буниных с Зайцевыми. 1930-е годы
- Пономарев Е. Р. Бунин, Бунина и Кузнецова: Факты и домыслы // "Когда переписываются близкие люди".. Письма И. А. Бунина, В. Н. Буниной, Л. Ф. Зурова к Г. Н. Кузнецовой и М. А. Степун (И. А. Бунин. Новые материалы. Вып. 3). Сост., подг. текста, научн. аппарат Е. Р. Пономарева и Р. Дэвиса, сопроводит. статьи Е. Р. Пономарева. М.: Русский путь, 2014. С. 567-598.
- Пономарев Е. Р. Переписка Буниных с Зайцевыми. 1920-е годы // Новый филологический вестник. 2021. № 4 (59). С. 208-216.
- Пономарев Е. Р. Преодолевший модернизм. Творчество И. А. Бунина эмигрантского периода (Академический Бунин. Вып. 2). М.: Литфакт, 2019. 340 с.