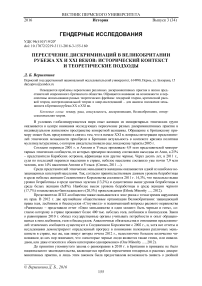Пересечение дискриминаций в Великобритании рубежа XX и XXI веков: исторический контекст и теоретические подходы
Автор: Вершинина Д.Б.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Гендерные исследования
Статья в выпуске: 3 (34), 2016 года.
Бесплатный доступ
Освещаются проблемы пересечения различных дискриминативных практик в жизни представителей современного британского общества. Обращается внимание на возможности и перспективы использования разных теоретических фреймов: гендерной теории, критической расовой теории, интерсекциональной теории и квир-исследований - для анализа положения меньшинств в Британии рубежа XX и XXI вв.
Гендер, раса, сексуальность, дискриминация, великобритания, интерсекциональная теория
Короткий адрес: https://sciup.org/147203743
IDR: 147203743 | УДК: 94(410)"19/20" | DOI: 10.17072/2219-3111-2016-3-155-160
Текст научной статьи Пересечение дискриминаций в Великобритании рубежа XX и XXI веков: исторический контекст и теоретические подходы
В условиях глобализирующегося мира опыт женщин из миноритарных этнических групп оказывается в центре внимания исследующих пересечение разных дискриминативных практик в индивидуальном жизненном пространстве конкретной женщины. Обращение к британскому примеру может быть продуктивно в связи с тем, что в начале XXI в. вопросы интеграции представителей этнических меньшинств приобрели в Британии актуальность в контексте кризиса политики мультикультурализма, о котором свидетельствовали еще лондонские теракты 2005 г.
Согласно переписи 2001 г. в Англии и Уэльсе проживало 4,9 млн представителей миноритарных этнических сообществ, из которых примерно половину составляли выходцы из Азии, а 25% – представители Карибских островов, африканцы или другие черные. Через десять лет, в 2011 г., судя по последней переписи населения в стране, небелое население составило уже почти 7,9 млн человек, или 14% населения Англии и Уэльса (Census, 2011…).
Среди представителей этнических меньшинств женщины оказываются одной из наиболее незащищенных категорий населения. Так, согласно правительственным данным уровень безработицы в среде небелых женщин Соединенного Королевства составил в 2011 г. 14,3%, что несколько выше уровня безработицы в среде цветных мужчин (13,2%) и существенно выше уровня безработицы в среде белых женщин (6,8%). Наиболее высок уровень безработицы в среде женщин черного (17,7%) и пакистанско-бангладешского (20,5%) происхождения (Ethnic Minority …, 2012).
Представители ЛГБТ-сообщества также оказываются в зоне риска с точки зрения нарушения их прав. В 2012 г. две крупнейшие общественные организации Великобритании: защищающий права геев, лесбиянок и бисексуалов «Стоунволл» и поднимающий вопросы расового неравенства «Раннимид» – представили отчет «Одно меньшинство в один момент: быть черным и геем», согласно которому в стране проживает более 400 тыс. небелых геев, лесбиянок и бисексуалов. Закон о равноправии 2010 г. обязал государственные органы учитывать потребности и опыт обращающихся к ним лесбиянок, геев и бисексуалов. Аналогичные обязательства в отношении представителей этнических сообществ существуют в Соединенном Королевстве с 2002 г., и, хотя все отчеты и исследования демонстрируют определенный прогресс в понимании положения различных меньшинств в стране, все же, как пишут авторы отчета 2012 г., недостаточно большое количество чиновников до сих пор понимают, что «некоторые черные люди являются также геями, или инвалидами, или даже относятся к обеим категориям одновременно» (One Minority …, 2012).
До принятия упомянутого закона о равноправии в 2010 г. в Британии в принципе не было национального законодательства, касающегося проблем пересечения гендерных и расовых дискри-минативных практик, и лишь этим законом была предоставлена возможность заявить о двойной
дискриминации. Вполне логично, что одним из критических замечаний по поводу данного закона, инициированного лейбористами, стало утверждение о том, что дискриминативные практики могут быть не только двойными, но и множественными. Кроме того, идея двойной дискриминации, к примеру, одновременно по признаку пола и расы, не позволяет ставить вопрос о том, что комбинация разных идентичностей не является суммой различных проблем (и не всегда просто умножает дискриминацию), но рождает качественно новый опыт дискриминации и маргинализации. Что значит быть, например, черной негетеросексуальной женщиной в современной Британии – вопрос, который заставляет ученых искать методологические подходы к анализу множественности дис-криминативных практик в современном мире.
Что касается официальных стратегий борьбы с гендерным неравенством в Великобритании, то они не предусмотрены для цветных женщин. Так, согласно официальной странице Хоум-Офиса, представленной в разделе «Равенство женщин», в 2012 г. лишь один правительственный проект затрагивал проблемы женщин из этнических меньшинств: это был составленный вместе с лондонской группой «Черные сестры Саутхолла» буклет «Три шага для того, чтобы избежать насилия в отношении женщин и девушек: руководство для небелых женщин и детей» (Three Steps to Escaping …). За прошедшие годы в центре внимания британского правительства оказался лишь один вопрос, непосредственно касающийся цветных женщин, – о женском обрезании и борьбе с ним на территории Соединенного королевства. В 2013–2015 гг. ему было посвящено немало буклетов Хоум-Офиса, в то время как вопросы, связанные с дискриминацией на рынке труда, до сих пор не стали важными дня британских государственных органов.
Между тем с развитием глобализационных процессов все активнее используется дешевый труд женщин, особенно женщин из этнических сообществ, и вполне логично, что в современной Британии вопросы соотношения расы, гендера, а в последнее время и сексуальности имеют уже достаточно длительную историю обсуждения.
Впервые подобная проблематика появилась в британском контексте в 1970-е гг., когда в рамках женского движения, развивавшегося начиная с первой общенациональной конференции женского освобождения, организованной в Рёскин-колледже Оксфорда в 1970 г., о своих проблемах стали заявлять цветные женщины, прежде всего выходцы с Карибских островов и из Азии, что позволило поставить вопрос о неоднозначности достижений феминизма второй волны. В своей критике белых феминисток британские черные и цветные женщины не были новаторами; скорее, они реагировали на то, что в Америке делали их соратницы по борьбе за включение проблем цветных женщин в повестку дня феминистских организаций. Опорными для них стали идеи, высказываемые за океаном Анджелой Дэвис, белл хукс (которая сознательно пишет свои имя и фамилию не с прописных букв) и другими черными феминистками. Согласно им, «феминизм … никогда не исходил от женщин, наиболее сильно страдающих от сексистского угнетения; от женщин, которых ежедневно убивают – духовно, физически и психологически – и которые не в состоянии изменить условия своей жизни. Они составляют молчаливое большинство, которое принимает свой удел без какого-либо недоумения, без организованного протеста, без коллективного гнева» ( хукс , 2001, с. 929).
Вслед за американскими британские феминистки уже в 1980-е гг. начали создавать «черную» феминистскую теорию: среди ставших классическими работ стоит назвать эссе Хейзел Карби «Белые женщины, слушайте! Черный феминизм и границы сестринства» ( Carby , 1997) и статью Валери Амос и Пратибхи Пармар «Бросая вызов имперскому феминизму» ( Amos, Parmar , 1984). Черные феминистки критиковали теорию патриархата за претензию на описание всеобщего и универсального опыта женского угнетения («… ты не могла быть там [в движении за женское освобождение. – Д.В. ] черной женщиной; ты была там женщиной» (Black Politics…, 1984, р. 14)), в то время как, по их мнению, феминизм апеллировал к опыту белых женщин среднего класса, которые зачастую угнетали не только черных женщин, но и черных мужчин. Они заявляли поэтому о проблематичности неолиберального, или «имперского», феминизма, не видящего важности пересечения гендерных и расовых измерений в жизни представительниц этнических меньшинств, чьи проблемы и нужды далеки от потребностей белых женщин.
Карби выделяла три концепта, центральных для феминистской теории второй волны, но не столь очевидных для черных женщин: семью, патриархат и производство. По ее мнению, для многих черных женщин именно семья зачастую оказывалась важным источником сопротивления угне- тению и защиты от него, а сами черные женщины нередко становились главами домохозяйства или переставали зависеть от черных мужчин финансово в силу высокого уровня безработицы в среде черного мужского населения. Кроме того, история труда черных женщин заставляла переосмыслить концепт производства, поскольку оказывалась связанной с черным домашним трудом в белых семьях. Все это, по мнению черных феминисток, требовало рассмотрения структур гендерного угнетения сквозь призму рабства, колониализма и империализма.
Осознание того, что феминизм в основном представлен белыми женщинами среднего класса, привело многих цветных британок к созданию собственных организаций. Одной из наиболее активно действующих была возникшая в 1974 г. «Группа черных женщин Брикстона», активистки которой утверждали, что «быть черной и феминисткой одновременно означает говорить о совершенно специфической грани феминизма…» (Black Feminism, 1984, с. 245), и призывали создавать автономное женское черное движение. Одновременно объектом их критики было антирасистское движение Великобритании, которое они обвиняли в маргинализации женского опыта.
Развитие «черной» феминистской теории позволило соединить два ключевых для 1980-х гг. теоретических подхода: гендерную теорию и критическую теорию расы. Так, введение понятия «гендер» в научный лексикон дало возможность осознать, что различие мужчин и женщин является социально сконструированным и, как пишет Жюльетт Ренн в статье, посвященной взаимоотношению категорий пола, расы, возраста и класса в современной французской теории, «понятие гендера обращено не на положение мужчин или женщин в отдельности, но на сам принцип разделения полов, на систему их иерархизации и на историческое определение женственности и мужественности как результата постоянных взаимных перемен и переключений, связанных с иными социальными изменениями» [ Ренн , 2011, с. 145]. Следовательно, гендер можно было рассматривать как стратификационную категорию наравне с такими концептами, как раса, класс, возраст, сексуальная ориентация, инвалидность, статус мигранта и др. Поэтому теория социального конструирования гендера способствовала пониманию того, что гендер необходимо связывать с другими аналитическими категориями.
С конца 1970-х гг. начала развиваться и критическая расовая теория, что позволило сделать вывод о структурном расизме западного общества и проанализировать инструменты и последствия его расиализации. Начав с юриспруденции и обратив внимание на социальную сконструирован-ность концепта «раса», сторонники критической теории стали исследовать, как в разные периоды в зависимости от колебаний, к примеру, рынка труда конструируется разное отношение к тем или иным этническим и расовым меньшинствам, как расизм пронизывает ежедневное взаимодействие людей разного цвета кожи, как маргинализация цветных мужчин и женщин принимает институци-ализированные формы и проявляется в государственной политике.
При этом так же, как и гендерная теория, критическая теория расы не просто развивалась как академическая дисциплина, но, скорее, предполагала акцент на активистской компоненте («она стремится не только понять нашу общественную ситуацию, но и изменить ее; она предпринимает усилия не только для того, чтобы выяснить, как общество самоорганизовывается по расовым признакам и иерархическим основаниям, но и для того, чтобы изменить общество к лучшему» ( Delgado, Stefancic , 2011, р. 3).
Если первоначально феминистски ориентированные теоретики и исследователи, работавшие в рамках критической расовой теории, предпочитали сравнивать дискриминативные опыты, связанные с различными стратификационными категориями, то постепенно к ним пришло осознание того, что необходимо пытаться выявлять взаимовлияние этих категорий. В результате теоретических пересечений двух теорий на рубеже 1980-х и 1990-х гг. возникла теория «взаимопересечений», или интерсекциональная теория, основанная на признании множественности идентичностей. Ее представители призывали исследовать индивидуальный опыт женщин в историческом, социальном и политическом контекстах, не забывая об уникальности жизненных практик индивидов. При этом предполагалось выяснить, как разные опыты цветных женщин становятся продуктом пересекающихся моделей расизма и сексизма и как они игнорируются в феминистском и антирасистском дискурсах. Важной в теории взаимопересечений стала идея о том, что сочетание различных идентичностей (женщина, черная, лесбиянка) не просто увеличивает число проблем, связанных с принадлежностью к нескольким меньшинствам одновременно, но рождает, по существу, новый опыт.
Крупнейший исследователь в области критической теории расы и один из апологетов теории
«взаимопересечений», профессор Юридической школы Калифорнийского университета Кимберли Креншоу в эссе «Обозначая границы: интерсекциональность, политика индентичности и насилие в отношении цветных женщин» ( Crenshaw, 1991) предложила использовать метафору дорожного трафика для понимания сущности множественных идентичностей и дискриминаций: раса, гендер, класс и другие категории выступают в ее теории как дороги, структурирующие социальную, экономическую или политическую территорию. К примеру, именно теория взаимопересечений позволяет обратить внимание на то, как представительницы этнических меньшинств попадают в тиски между домашним насилием и жесткой иммиграционной политикой, в соответствии с которой невестка-иммигрантка должна прожить как минимум год в браке, прежде чем получить право постоянного проживания в Великобритании. В результате женщины, которые боятся возвращаться в свои страны из-за страха еще большего насилия, а также нищеты, выбирают насильственные отношения в семье ради получения гражданства Соединенного Королевства.
В то же время создатели интерсекциональной теории обращают внимание на неоднозначность соединения гендера и расы. Так, борьба за равенство полов может рождать институционализированный расизм, когда, к примеру, черные мужчины представляются в публичных дискуссиях в большей степени склонными к насилию, чем белые, а мусульманское сообщество критикуется за жестокое отношение к женщинам, что может быть использовано в неоколониальном дискурсе государства как обоснование для ужесточения иммиграционной политики. Как писала еще в 1982 г. Х. Карби, «медийные ужасы про азиатских девочек и принудительные браки имеют малое отношение к их опыту. "Феминистская" версия этой идеологии представляет азиатских женщин как нуждающихся в освобождении не в терминах их собственных историй и нужд, но в терминах "прогрессивных" общественных нравов и традиций западной метрополии» ( Carby , 1997, р. 47).
Вместе с тем политика мультикультурализма с позиций интерсекциональной теории может способствовать усилению гендерной дискриминации, проявляющейся в том, что лидеры этнических сообществ, которыми всегда являются мужчины, репрезентируют интересы своих групп, не беря в расчет ситуацию с гендерным равенством. В результате акцентирование идеи сохранения и трансляции культурных ценностей от одного поколения к другому приводит к консервации патри-архатных семейных отношений и зачастую является причиной того, что государственные органы, прежде всего полиция, игнорируют факты дискриминации женщин в этнических сообществах. Иными словами, вопрос о дискриминации по признаку пола в этнических группах снимается благодаря обращению к либеральным принципам толерантности и уважения к разнообразию и различию.
Если вопросы соотношения гендера и расы начали рассматриваться в Британии, как и в других странах Запада, практически сразу же после возрождения феминизма в 1970-х гг., то добавление к изучению гендерной проблематики контекста сексуальности связано прежде всего с развитием квир-теории 1990-х гг., которая укрепила представление об отсутствии естественной врожденности идентичностей и позволила взглянуть на общество как инструмент создания гендеризиро-ванных, сексуализированных и расиализированных существ. Квир-теоретики размышляли о том, как искусственное конструирование различий между индивидами, будь то гендерные, расовые или связанные с сексуальной ориентацией, становятся основой властных отношений. И, хотя изначально в центре квир-теории находилась именно сексуальность, ее революционный потенциал гораздо шире вопросов, связанных с гетеро/гомосексуальностью, поскольку создатели теории определяли «сексуальную ориентацию как аутентичную и главную категорию квир-практики, тем самым делая квир-теорию способом переосмысления не только сексуального, но социального в целом» [ Somerville , 2002, р. 728].
Методологические подходы французского историка и философа Мишеля Фуко и американского философа Джудит Батлер к изучению негетеросексуального опыта позволяли понимать идентичности как социальные практики, поскольку согласно квир-теории идентичность не является раз и навсегда данной сущностью, а представляет собой постоянно поддерживаемый и формируемый властным дискурсом процесс конструирования иерархий. По словам американского квир-теоретика и представительницы сообщества чикано (выходцев из Мексики) Глории Анзалдуа, «…идентичность – это не набор маленьких клетушек, соотносимых с интеллектом, расой, полом, классом, профессией, гендером. Идентичность течет между и над аспектами личности. Идентичность есть река, процесс» (The Gloria Anzaldúa ..., 2009, р. 166).
В отличие от теории интерсекциональности, в рамках которой рассматривается вопрос о вза-имопересечении идентификационных категорий, в квир-теории исследуется необходимость их деконструкции, а также тесная взаимосвязь расистского дискурса с гендером и сексуальностью. Так, в викторианской Британии семья и брак воспринимались как важнейшие для сохранения чистоты крови институты. По мнению квир-теоретиков, любая политика, определяющая себя в терминах одной сексуальной ориентации, будет ставить в центр своего внимания именно принадлежность к белой расе («whiteness»). Кроме того, квир-теория позволяла поставить вопрос о том, что традиционные и доминирующие формы ЛГБТ-активности, являющиеся частью политики идентичностей, оказываются зачастую неприемлемы для небелого сообщества, что в пронизанной расизмом жизни как черных женщин, так и небелых представителей ЛГБТ-коммьюнити семья играет слишком важную роль, поэтому они не могут применять стратегию камин-аута, т.е. раскрытия своей идентичности, и жертвовать семейными узами ради открытого заявления о своей гомосексуальности.
Изложенные методологические подходы к изучению гендера, расы и сексуальности позволяют получить представление о сложности такого феномена, как пересечение различных идентификационных категорий, а также наметить пути исследования соотношения гендера, сексуальности и расы в современном британском (и не только) обществе.
Список литературы Пересечение дискриминаций в Великобритании рубежа XX и XXI веков: исторический контекст и теоретические подходы
- Ренн Ж. Отношения между полами в узле расовых, возрастных и классовых отношений: гендерные исследования и дебаты во Франции в первом десятилетии XXI в.//Laboratorium. 2011. № 3
- Delgado R., Stefancic J. Critical Race Theory: An Introduction. New York, 2011
- Somerville S. B. Introduction: Queer Fictions of Race//Modern Fiction Studies. 2002. Vol. 48, № 4