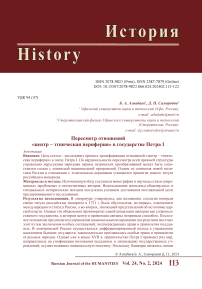Пересмотр отношений «центр - этническая периферия» в государстве Петра I
Автор: Азнабаев Б.А., Самородов Д.П.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Цель статьи - исследовать процесс трансформации отношений «центр - этническая периферия» в эпоху Петра I. По кардинальности пересмотра всей прежней структуры управления нерусскими народами период петровских преобразований может быть сопоставлен только с ленинской национальной программой. Одним из символов новой политики России в отношении с этническими окраинами становится принятие нового титула российским монархом.
Российская империя, уфимская провинция, башкиры, унификация управления
Короткий адрес: https://sciup.org/147243809
IDR: 147243809 | УДК: 94 | DOI: 10.15507/2078-9823.066.024.202402.113-12
Текст научной статьи Пересмотр отношений «центр - этническая периферия» в государстве Петра I
Сегодня Российская Федерация является полиэтничным государством, воспринявшим некоторые традиции управления национальными окраинами из своего имперского опыта. Изучение управления «инородцами» в досоветский период имеет безусловную актуальность для формирования национальной политики государства на современном этапе.
Наиболее сложным и противоречивым периодом во взаимоотношениях центра и национальных окраин является эпоха Петра I. По кардинальности пересмотра всей прежней структуры управления нерусскими народами период петровских преобразований может быть сопоставлен только с ленинской национальной программой. Одним из символов новой политики России в отношении с этническими окраинами становится принятие нового титула российским монархом. Тем не менее в ряде исследований имеется мнение, что утверждение в России императорского титула никак не сочетается с пересмотром основных концепций внутренней политики страны. По мнению О. Г. Агеевой, выраженному в ее статье «От Московского царства к Всероссийской империи», изменение титулатуры в первую очередь обусловлено изменением внешнеполитического статуса государства. В начале XVIII в. международное положение России изменилось, и стало необходимо четко определить ранг русского монарха в Европе [1, с. 118].
Исследователем Р. С. Уортманом предлагается альтернативная интерпретация. По его мнению, в отличие от русского царства, римское (европейское) государство в меньшей степени было подвержено влиянию религиозных институтов, а сам император, являясь триумфатором, также в меньшей степени определял свою зависимость от религиозного источника власти, нежели русский царь. Триумфальная сакрализация власти несла тот же смысл, что и коронация [9]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что император исключается из своей ответственности перед богом за души своих подданных и становится победоносным лидером, власть которого исходит от сената, представляющего народ.
Материалы и методы
Методология и исследовательский подход в данной работе основаны на концепциях новой имперской истории. Особое внимание уделяется антропологическому аспекту этого направления, как отмечено А. Каменским. Новая имперская история не только анализирует самосознание и идеологию власти, выраженные в менталитете элит, но и рассматривает представления о государстве отдельных социальных групп. В фокусе исследования – особенности мировосприятия, социальной психологии и идентичности обычных граждан империи, их самопонимание как членов единого имперского общества. Важным аспектом исследования является вопрос, насколько подданные империи разделяют «имперскую идеологию» с теми, кто управляет, и насколько совпадают их взгляды и мировосприятие [6, с. 64].
Результаты исследования
Приводятся аргументы в пользу того, что изменение титулатуры русского монарха в 1721 г. было вызвано, в частности, трансформацией отношений между центром и этнической периферией. Внешнеполитический аспект, если не учитывать стремление государства к экспансии, и источник власти монарха (божественный или народный) не имеют прямой связи с пониманием империи как сложной политической структуры. По определению Ч. Тилли, империи представляют собой «сложносоставные политические образования, связанные с центром косвенным образом» [12, p. 1–11].
Однако стоит рассмотреть возможность того, что в XVI–XVIII вв. в России понимание термина «империя» существенно отличалось от понимания Ч. Тилли. В XVI в. титул царя соответствовал титулу византийского императора. Иван IV обратился к вселенскому патриарху с просьбой официального утверждения своего царского титула только после завоевания Казанского и Астраханского ханств, правители которых были юридически признаны суверенными монархами. Это произошло, когда Московское государство превратилось в «сложносоставную политическую структуру». Поднимая подданных до графского достоинства (привилегия императора), Петр I в своем дипломе отмечал: «Если данная нам от Всевышнего самодержавная власть распространяется в нашем Всероссийском наследном царстве и прочих просторных государствах...». Таким образом, царь подчеркивал не только свое «самодержавие во Всероссийском царстве», но и управление «другими государствами».
В XVI–XVII вв. Россия обладала имперским статусом, что подтверждалось стратегией непрямого управления территориями, ранее являвшимися суверенными государствами. Казанское и Астраханское ханства, завоеванные в этот период, не были непосредственно включены в административнозаконодательную систему страны. Вместо этого они подчинялись специальному ведомству – Приказу Казанского дворца, которое регулировало всю сферу законодательства, касающегося управления «инородцами». Это ведомство приобрело характеристики органа с особым профилем, определяющего общую национальную политику правительства в стране. Управление присоединенными государствами сохраняло множество прежних практик и институтов власти, типичных для эпохи Золотой Орды.
До проведения петровских реформ Приказ Казанского дворца, управлявший областью Поволжья и Приуралья, располагал собственным бюджетом, из которого только 7–9 % поступало в общенациональную казну. Управление и защита новых территорий поглощали основную часть собранных налогов и пошлин. В отличие от Сибири, в российской системе управления ВолгоУральским регионом отсутствовал колониальный контекст.
Изменения в организации регионального управления впервые произошли в период Азовских походов. Указом от 20 декабря 1695 г. территории Зауральского бассейна, ранее подчиненные Сибирскому приказу, были изъяты из его компетенции и переданы под управление уфимских воевод. Эта реформа в административно-территориальном плане, хотя казалась незаметной, фактически обозначила отступление от традиционного деления российских подданных.
В истории Монгольской империи и России в XVI–XVII вв. статус завоеванных и добровольно принявших подданство народов существенно различался. В XVI в. уфимские башкиры отличались от башкир Тобольского уезда, рассматриваемых как «люди хана Кучума». Их владения были признаны государственной собственностью, а налоговое бремя значительно превосходило обязательства башкир Уфимского уезда. Однако в 1695 г. государство выровняло права и привилегии всех башкир независимо от способа принятия подданства.
В 1701 г. администрирование вопросов управления вотчинами и финансами было перемещено из Приказа Казанского дворца в г. Казань. К концу XVIII в. данная институция преобразовалась в губернию, и перевод управленческих функций лишь укрепил этот процесс [2]. Как эти изменения сказались на управлении местными народами, не являющимися русскими?
Обсуждение и заключение
До реформ, проведенных в эпоху Петра I, башкиры были наиболее привилегированным народом на юго-востоке России. Со времен Золотой Орды они удерживали вотчинное право на землю, что законодательно запрещало любые попытки отчуждения башкирских территорий. К середине XVIII в. башкиры владели примерно 28 млн 484 тыс. дес. земли [3, с. 76]. При этом размер ясака, взимаемого с башкирской земли, составлял всего 5 217 руб. Отметим, что башкиры уплачивали лишь 1 508 руб., оставшуюся сумму оплачивали приписанные к ним лица. В сравнении, только жители одного Якутского уезда в 1667 г. внесли в казну 1,4 млн руб. от ясачных платежей.
Башкиры обладали особым правом обращения непосредственно к главе государства. В работе Н. Ф. Демидовой, посвященной истории башкирских посольств в Москве, подчеркивается, что в XVII в. делегации представителей башкир стремились подтвердить и уточнить привилегии, установленные в период добровольного вхождения в середине XVI в. [5, с. 180].
В отличие от мусульманских народов Поволжья башкиры имели свободу исповедовать ислам. Они активно строили мечети и медресе, не сталкиваясь с ограничениями, которые применялись к мусульманам в других регионах. Пользуясь отсутствием контроля со стороны православной церкви, башкирские имамы приводили в ислам не только язычников, таких как мари и удмурты, но и православных крестьян, бежавших на их земли.
С 1704 по 1708 г. российские власти отменили практически все привилегии башкир. Ч. Р. Стейнведел заметил, что Петровское правительство проводило в Уфимской провинции мероприятия, не прямо связанные с изменением налоговой политики [11]. В 1704 г. башкиры были лишены права прямо обращаться к царю; теперь все их дела требовали решения в Казани. Несмотря на обязательство государства не изменять ясачный оклад без согласия башкир, с 1704 г. полностью пересмотрены все фискальные требования. В 1705 г. казанские власти объявили сбор с башкир 5 000 лошадей, что в 16 раз превышало ясак и предыдущие налоги. Также началось изъятие у башкир наиболее прибыльных рыбных угодий с целью передачи их откупщикам. Были введены ограничения в соответствии с исламской верой, которые предписывали контроль православной церкви над исламскими обрядами, такими как свадьбы и похороны. По образцу православных традиций указывалась необходимость создания кладбищ рядом с мечетями.
Все эти поспешные и провокационные меры явно свидетельствуют о главной цели реформатора – устранении различий в положении подданных, достижении равенства их прав и обязанностей.
Авторы «Новой имперской истории Северной Евразии» утверждают, что идеологическое обоснование фискальных реформ Петра I следует искать в применении политики камерализма [4, с. 30]. Эта доктрина, зародившаяся в немецких княжествах после Тридцатилетней войны, видела в роли государства объединение граждан, разобщенных экономическими процессами. Основная цель государства заключается в достижении равенства и справедливости в налогах и сборах. Один из важных сторонников камерализма в России, Г. фон Фик, выделял мысль в проекте регламента Камер-коллегии о том, что если действительно будет обеспечено равенство и справедливость в сборах и расходах, чтобы между высокими и низкими, бедными и богатыми сохранялось соответствующее равенство, и никто не был бы лишен или обременен больше другого, так как, если это произойдет, то бедные будут вынуждены покидать свои участки и поля, и доходы государства со временем значительно уменьшатся.
Согласно исследованиям И. Герасимова, М. Могильнера и С. Глебова, большинство поступков Петра I легко объясняются применением камералистского мышления [4, с. 56]. Тем не менее на юго-восточной окраине России действия властей не соответствовали даже основам камералистской теории. Например, в камерализме предусмотрен четкий принцип функциональности, согласно которому каждое учреждение должно самостоятельно управлять своей областью деятельности. Основное внимание уделялось финансовым учреждениям, которые четко разделялись на органы, отвечающие за сбор средств, управление этими средствами и их направление на нужды, а также на органы, занимающиеся независимым финансовым учетом и контролем. В каждом учреждении использовались общие принципы для создания различных видов документов, соблюдались утвержденные правила «движения бумаг», их учета и оборота в административных структурах.
В 1704 г. в Уфимской провинции начали свою деятельность прибыльщики, подчиненные Ингерманландской канцелярии. Это учреждение, фактически управлявшее Поволжьем, получило право вводить новые объекты налогообложения без согласования с другими правительственными органами.
Петр I воспринимал новые окладные сборы в качестве отдельного ресурса, представленного вне общего консолидированного бюджета, которые, следовательно, не могли учитываться при проведении общего контроля и полагаться распределению. Государственный бюджет канцелярии казался незначительным, и отчеты от Ингерманландской канцелярии не предоставлялись Ближней канцелярии. Эти обстоятельства затрудняли отслеживание финансовой деятельности канцелярии с той ясностью, которая доступна для других приказов [2].
Ингерманландская канцелярия не ограничивала себя ролью простого сборщика, а стремилась активно управлять собранными средствами так же свободно, как и собственными, выделенными накладными финансами. Из данного факта можно сделать вывод, что фискальная стратегия Петра I в Среднем Поволжье и Приуралье никак не соответствовала камералистской теории. Также весьма затруднительно назвать ее оккупационной, ввиду того что взносы завоеванной территории все равно подлежали централизованному учету.
Можно согласиться с основным утверждением авторов «Новой имперской истории Северной Евразии» в том, что камерализм вызывал сомнения относительно перспектив «империи» России в контексте сложного политического пространства [4, с. 198].
Согласно мнению Дж. Бербанка и Ф. Купера, действия Петра I в Уфимской провинции, направленные на политику унификации и гомогенизации населения, не привели к разрушению империи, а, наоборот, представляли переход к новому имперскому проекту. Они выделяют два возможных пути имперской эволюции – евразийский и римский [10, p. 229]. По их концепции, существуют империи, основывающие управление на разнообразии («евразийский путь»), и империи, стремящиеся к унификации и однородности («римский путь»).
В данном контексте Ч. Тилли представляет точку зрения, противопоставляемую идее о том, что история имеет примеры империй, основанных на прямых, стандартизированных связях между центром и периферией. Он заявляет, что вместо этого история демонстрирует несколько случаев, когда империи сохраняли целостность благодаря использованию непрямых методов управления.
По мнению Ч. Тилли, каждая империя не только представляет собой сложную политическую структуру, но и функционирует как государство, в котором центр и этническая периферия взаимодействуют через непрямые связи. Центр управляет военными и финансовыми аспектами в различных сегментах империи, однако вместе с тем применяет косвенные методы управления. Такие косвенные подходы включают заключение специальных соглашений с властями каждого сегмента или делегирование полномочий через посредников, обладающих автономией в своих областях. Эти меры принимаются в обмен на лояльность, сбор налогов и военное сотрудничество с цен- тром. По мнению Ч. Тилли, отказ от такого непрямого управления в пользу прямых и стандартизированных связей может привести к распаду империй. Таким образом, он подчеркивает роль гибкости и адаптации в управлении империей, аргументируя, что стремление к стандартизированным отношениям может привести к негативным последствиям.
Понятие заключения специальных соглашений с властями каждого региона, как описано в вопросе, касается конкретной теории управления и подразумевает, что центральная власть должна вступать в индивидуальные соглашения с различными региональными властями. В контексте управления национальными окраинами в России данная теория может не всегда полностью соответствовать практике исторического развития.
Авторы «Новой имперской истории Северной Евразии» указывают, что для Москвы подход контрактных обязательств царя по отношению к новым подданным был неприемлемым. Вместо этого Москва следовала другой правовой традиции, связанной с наследием Орды, где ханы не заключали договоры с подданными [4].
Это указывает на то, что в историческом контексте Московского царства подход к управлению мог отличаться от некоторых других политических образований. Исторические, культурные и правовые особенности могут играть ключевую роль в формировании методов управления национальными окраинами.
Однако стоит отметить, что в истории России существовали различные модели управления регионами и с течением времени подходы к управлению могли изменяться. Для более точного понимания контекста и применения теорий управления в конкретный исторический период следует обратиться к более детальным историческим исследованиям и источникам.
Тем не менее имелись соглашения, устанавливающие права и льготы для подданных, называемые двусторонними актами общественного права, известными как ярлыки или жалованные грамоты. В качестве примера приведем тот факт, что на рубеже XVII–XVIII столетий, фактически после каждого восстания, так называемые башкирцы всех четырех дорог получали от царя жалованные грамоты, которые сочетались с «отпущением вин». Данные грамоты рассмаривались башкирским населением в качестве полноценных договоров. На этот факт указывают и шежере башкирских племен, в частности Усерган, Кыпсак, Бурзян, Тамьян и Тангаур, где отмечается, что была составлена указная (договорная) грамота, в которой они подробно описали свои земли и религию, закрепив слово клятвой башкирам и исповедующим ислам, что никто и никогда не будет принуждаться к другой религии. В свою очередь, башкиры обещали честно и усердно нести службу, принимая условия этого соглашения, и, обменявшись подписями, «записали нашу грамоту в Казани в книгу».
Грамоты, которые формально выдавались, не влекли за собой никаких наказаний. Тем не менее у подданных, чьи права были нарушены монархом, существовало право на возмущение. Этот юридический конфликт отразился в Ясе. Ибн Баттута, который посетил Центральную Азию в середине XIV в., подробно описал эту возможность: Чингис составил книгу своих указов, которую они называли Йасак, и в ней было указано, что тот, кто не соблюдает эти указы, должен быть свергнут [8, с. 54]. Право на вооруженное восстание против правителя, нарушившего свои законы, проявляется на уровне языкового диссонанса, который отражен в документах. В. Н. Татищев первым заметил, что башкиры используют в своих документах, по сути, декри-минализованные термины для обозначения своих восстаний: «Земли, данные е. и. в., они называют своими, а бунты – войной, а отпущения вин – миром, потому что народ степной и дикий, и его прежняя воля была искажена».
Подводя итог, следует отметить, что усилия Петра I по «унификации» башкир фактически привели к аннулированию всех предыдущих льготных грамот и одностороннему устранению системы косвенного управления. Подобные процессы происходили в то время также на Украине, на Дону, на Северном Кавказе и на Нижней Волге. Внесение изменений в титулатуру в 1721 г. для всех народов государства символизировало новую концепцию, в рамках которой отменялись все привилегии и права, предоставленные русскими монархами различным этносам. В 1702 г. была введена унифицированная форма подписи «нижайший раб» для всех подданных [7]. Ранее башкиры называли себя «холопами» в подданной записке, рассматривая себя как привилегированный класс служащих, в то время как ясачные жители Казанского уезда именовали себя «сиротами».
В результате правления Петра I государство не претерпело трансформации от евразийского к римскому облику, а фактически пришло к началу разрушения. После восстания в 1704–1711 гг. башкиры формально вышли из состава российских подданных. Возвращение башкир к статусу подданных произошло лишь в 1722 г., после восстановления всего комплекса привилегий, полученных ими после добровольного включения в состав России в середине XVI в.
ГУМАНИТАРИЙ : актуальные проблемы гуманитарной науки и образования
Список литературы Пересмотр отношений «центр - этническая периферия» в государстве Петра I
- Агеева О. Г. От Московского царства к Всероссийской империи // 1150 лет Российской государственности и культуры: материалы к Общему собранию Рос. академии наук, посвящ. Году рос. истории. М., 2012. С. 109–121.
- Азнабаев Б. А. Башкиры в имперском дискурсе Петра I // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. Вып. 8. URL: https://history.jes.su/s207987840005547-0-1/
- Акманов А. И. Земельная политика Царского правительства в Башкирии (вторая половина XVI – начало XX вв.). Уфа: Китап, 2000. 208 с.
- Герасимов И., Могильнер М., Глебов С. Новая имперская история Северной Евразии. Балансирование имперской ситуации: XVIII–XX вв. Казань: Аb Imperio, 2017. Т. 2. 465 с.
- Демидова Н. Ф. Башкирские посольства в Москву в XVII в. // От древней Руси к России Нового времени. М., 2003. С. 172–185.
- Каменский А. Подданство, лояльность, патриотизм в имперском дискурсе России XVIII в.: К постановке проблемы // Ab Imperio. 2000. № 4. С. 59–99.
- Марасинова Е. Н. «Рабы» и «граждане» в Российской империи XVIII в. // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе»: К проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи. М., 2008. С. 99–118.
- Почекаев Р. Ю. Легитимация власти, узурпаторство и самозванство в государствах Евразии. Тюрко-монгольский мир XIII – начала ХХ в. М.: Высш. шк. экономики, 2017. 215 с.
- Уортман Р. С. Сценарии власти: Мифы и церемонии рус. монархии: Материалы и исслед. Т. 1, вып. 8. От Петра Великого до смерти Николая I. М.: ОГИ, 2002. 607 с.
- Burbank J., Cooper F. Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press. 2011. 511 p.
- Steinwedel Ch. R. Threads of Empire: Loyalty and Tsarist Authority in Bashkiria, 1552–1917. Bloomington: Indiana University Press, 2016. 384 p.
- Tilly Ch. How empires end // After empire: multiethnic societies and nation-building. The Soviet Union, and the Russian, Ottoman and Habsburg empires. Boulder; Oxford, 1997. P. 1–11.