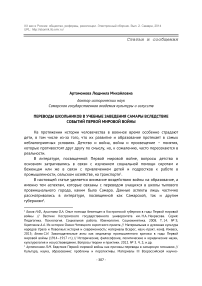Переводы школьников в учебные заведения Самары вследствие событий Первой мировой войны
Автор: Артамонова Людмила Михайловна
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
Автор исследует вопрос перевода учащихся в учебные заведения Самары как следствие военной ситуации
Первая мировая война, самара, миграции, народное просвещение, среднее образование
Короткий адрес: https://sciup.org/140129651
IDR: 140129651
Текст научной статьи Переводы школьников в учебные заведения Самары вследствие событий Первой мировой войны
ПЕРЕВОДЫ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ САМАРЫ ВСЛЕДСТВИЕ СОБЫТИЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
На протяжении истории человечества в военное время особенно страдают дети, в том числе из-за того, что их развитие и образование протекает в самых неблагоприятных условиях. Детство и война, война и просвещение – понятия, которые противостоят друг другу по смыслу, но, к сожалению, часто пересекаются в реальности.
В литературе, посвященной Первой мировой войне, вопросы детства в основном затрагивались в связи с изучением социальной помощи сиротам и беженцам или же в связи с привлечением детей и подростков к работе в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте 1 .
В настоящей статье уделяется внимание воздействию войны на образование, а именно тем аспектам, которые связаны с переводом учащихся в школы тылового провинциального города, каким была Самара. Данные аспекты лишь частично рассматривались в литературе, посвященной как Самарской, так и другим губерниям 2 .
Статьи и сообщения
Несмотря на провинциальность Самара накануне Первой мировой войны была городом с достаточно развитой культурно-просветительской инфраструктурой, которая предоставляла большие возможности для получения всех уровней образования, за исключением высшего. Уже в 1897 г. здесь в разных учебных заведениях обучалось более 90% всех детей в возрасте от 8 до 11 лет 3 . В конце XIX в. был поставлен вопрос о введении всеобщего начального обучения в Самарском уезде, а в начале XX в. – во всей губернии 4 .
После начала Первой мировой войны известный публицист самарской газеты «Волжское слово» Н. Северский (А.И. Свидерский) писал, выражая уверенность земляков, что «школа в Самаре будет функционировать во время войны… И мы должны оберегать свою школу и блюсти ее интересы до тех пор, пока не наступит крайняя минута…» 5 Действительно, образовательный потенциал города в военные годы не был утрачен. Наоборот, он даже возрос. В 1914–1916 гг. в городе насчитывалось более 140 учебных заведений, в их числе – полтора десятка средних общеобразовательных и специальных учебных заведений: учительский институт, реальные училища, мужские и женские гимназии, духовная семинария, земская школа сельских учительниц, техническое железнодорожное и коммерческое училища. Неполное среднее образование давали 3 городских высших начальных училища, устроенные и для мальчиков, и для девочек 6 . В 1911 г. из музыкальных классов было образовано Музыкальное училище Самарского отделения Императорского Русского музыкального общества 7 . В военном 1914 г. оно стало давать своим учащимся, кроме профессиональной подготовки, общее образование в объеме курса прогимназии 8 .
Весьма многочисленными были начальные и элементарные школы. Накануне 1917 г. в городе работали 9 мужских, 9 женских и 49 смешанных приходских училищ, а также ряд подобных училищ, организованных Союзом русского народа, Обществом приказчиков при Жигулевском пивоваренном заводе, католическом
Статьи и сообщения
костеле, лютеранском приходе. Действовали также еврейская и татарские школы, ремесленные и торговые училища, школы для учеников с ограниченными возможностями. Среди начальных школ перечнем предметов и длительностью обучения выделялись 2-х, 3-х и 4-х классные училища: городские (2 женских и 1 мужское), земские (женское и мужское), духовное (для детей священнослужителей) и два епархиальных (для их дочерей) 9 .
Таким образом, в Самаре имелись достаточные возможности для обучения детей не только местных жителей, но и значительной части беженцев и переселенцев из зоны боевых действий, районов оккупации противником, близких к фронту губерний. Образовательный процесс функционировал, несмотря на то что значительная часть учебных площадей была отдана под устройство лазаретов, размещение солдат и военнопленных. Конечно, дети и родители, школы и учителя испытывали немало лишений. Однако желание и необходимость учиться преодолевали эти проблемы и невзгоды.
При изучении обстоятельств перевода школьников в учебные заведения Самары в годы Первой мировой войны по возможности проводилось выявление отличий в причинах переводов, характерных для мирного и военного времени. В архивных фондах ряда образовательных учреждений наряду со сведениями об учебе, личными делами, аттестатами зрелости школьников частично сохранились и прошения о приеме. Именно в них родителями, родственниками или самими учениками излагались эти причины.
Наиболее интересные материалы о приеме учеников сохранились в фонде Самарской второй мужской гимназии. Для поступления в учебное заведение родители будущих гимназистов должны были подавать прошение на имя директора. Форма заявления о приеме была строго установлена и напечатана на бланке. Указывались фамилия, имя, отчество родителей (или одного из родителей); фамилия и имя поступающего; сословие, к которому принадлежала семья; адрес проживания (или адрес последнего места жительства для недавно переехавших в Самару); основания для поступления (общие, перевод из другого учебного заведения и т.д.); степень подготовки будущего ученика; в какой класс он собирался поступать. К прошению прилагались «справки об успехах» (для переводившихся из других учреждений), метрическая выписка, «свидетельство доктора», данные о прививках, сведения о родителях (сословие, доход, возраст, род занятий), обязательство родителей по содержанию гимназиста, свидетельство о сроке явки к исполнению воинской повинности.
Статьи и сообщения
Социальное положение родителей учеников, чьи прошения сохранились, было разнообразным и охватывало различные слои городского населения. Среди них упоминались дворяне, офицеры, «военные чиновники», «потомственные граждане», мещане, купцы, церковнослужители, крестьяне. Пестрым был их этнический и конфессиональный состав 10 .
Анализируя прошения о поступлении в гимназию, их можно разделить на две хронологические группы: поданные до 1916 г. и поданные в 1916–1917 гг. До 1916 г. большинство новых учеников поступало в первый класс. В 1916–1917 гг. участились переводы в г. Самару из других гимназий и училищ. Основания для них были различны.
В связи с военными событиями уже к осени 1915 г. хлебные поставки в города были нарушены, в 1916 г. положение с продовольственным снабжением становилось все более тяжелым и к 1917 г. приняло особо острый характер. Именно продовольственный кризис стал одной из причин оттока населения из столиц и крупных городов центральной России. Сказался он и на судьбах гимназистов, которые вынуждены были возвращаться домой из столичных гимназий. В прошении А.П. Машкевича от 22 августа 1917 г. сказано: «Покорнейше прошу принять сына моего Михаила в седьмой класс вверенной Вам гимназии. В настоящее время он числится воспитанником седьмого класса Петроградской гимназии Я. Гуревича, и вследствие продовольственного кризиса не может продолжать в таковой своего дальнейшего образования. Приняв во внимание распоряжение Временного правительства, предоставляющее право воспитанникам Петроградских учебных заведений зачисляться в учебные заведения по месту их постоянного жительства, я надеюсь, Вы найдете возможным удовлетворить мое ходатайство» 11 .
Серьезным основанием для изменения места жительства и учебы были не только продовольственные, но и другие экономические трудности, ударившие по многим семьям. Военные расходы и потери, снижение производства гражданской продукции вели к падению жизненного уровня населения, вызывая рост цен, инфляцию, дефицит и другие проблемы. Эти проблемы чувствовались с самого начала войны. Уже в августе 1914 г. в Самаре били тревогу по поводу положения многих семей, мужчины из которых были призваны на войну: «…Им приходится продавать последнюю свою рухлядь, чтобы просуществовать день-два. И таких обнищавших семей много. Обходя дворы, приходится наталкиваться, положительно, на полуголых детей и женщин, вынужденных разговаривать с посетителем через двери или стоя спиной к посетителю. Домохозяева, у коих приютились солдатки со своими семьями, гонят с квартир, опасаясь неплатежа денег. Есть, наконец, дети-
Статьи и сообщения
сироты, у коих мать умерла, а отец взят на войну. Надо их устроить немедленно. При отце-вдовце они все же по миру не ходили, а теперь приходится содержаться подаянием» 12 .
Финансовые затруднения, призыв в армию мужчин-кормильцев делали невозможным содержание детей в учебных заведениях, расположенных вдали от дома, что становилось причиной перевода гимназистов из одних учебных заведений в другие. В прошении от 9 сентября 1917 г. от проживавшего в Самаре мещанина иудейского вероисповедания И.Л. Пинеса, уроженца Виленской губернии, сказано: «Имею честь покорнейше просить о переводе сына моего Моисея из Сызранской гимназии в седьмой класс вверенной Вам гимназии. Все документы его находятся в Сызранской гимназии, но справку о его успехах можно предоставить из первой мужской гимназии в г. Самаре, куда не был принят за неимением свободного места. Считаю не лишним отметить, что имею двух сыновей на войне. Обремененный большой семьей не имею возможности при постоянной дороговизне содержать сына в отдельном чужом городе, а потому обязательно прошу удовлетворить мое ходатайство и тем самым дать мне возможность продолжать учить моего сына» 13 .
Суть описанной выше ситуации заключается в том, что конкурс на зачисление и требования к поступающим в средние учебные заведения губернского города Самары были заметно более строгими, чем в аналогичные школы, расположенные в уездных центрах. В силу этого самарские жители, чьи дети не проходили отбор в средние образовательные учреждения своего города, отправляли их на учебу в соседние города, чаще всего в г. Сызрань, где не все вакансии заполнялись местными детьми и школьников из других мест принимали охотно 14 .
В мирные годы содержание школьников из Самары в домах родственников или на съемных квартирах в Сызрани не было очень обременительно. Однако в условиях войны и революции уровень расходов на ребенка-ученика в чужом городе, посильный для довоенного времени, становился неподъемным для самарских жителей.
У Моисея Пинеса возникла дополнительная проблема по переводу, поскольку он учился не в казенной школе. Он поступил в 1911 г. в частное учебное заведение 1-го разряда А. Укольского, преобразованное затем в частное же заведение Общества по открытию правительственной гимназии в г. Сызрани, где и закончил в 1915 г. четыре класса. К документам о переводе поэтому были приложены выписки
Статьи и сообщения
из Свода законов о праве сдавать экзамены в казенную гимназию учениками и выпускниками частных школ и распространении на них льгот по несению воинской повинности 15 .
Нельзя исключать также повышенную мобильность еврейских семей в годы войны и особенно после Февральской революции. Это было связано как с ослаблением, а затем с отменой ограничений на их проживание в тех или иных местностях, так и с опасениями межэтнических и межконфессиональных эксцессов в надвигающемся гражданском противостоянии. Возможно, эти обстоятельства отразились на прошении Ф.Ш. Бромберг, в котором выражалось желание перевести ее брата Рувима Бромберга, сына купца I гильдии, из Первой мужской гимназии Оренбурга во Вторую мужскую гимназию Самары в связи с переездом в этот город всей семьи. Прошение о переводе этого юноши в 7-й класс самарской гимназии было удовлетворено 16 сентября 1917 г. 16
Необходимость перевода в другие учебные заведения могла быть вызвана передвижением населения из-за временного закрытия или полной ликвидации ряда производств в тех или иных городах. Причинами тому были или чисто экономические трудности, или техногенные катастрофы, или возможные диверсии, если речь шла об оборонных предприятиях.
Прошение от 6 августа 1916 г. о приеме в гимназию Константина Гаврилова представляет редкий пример, когда его писал не кто-то из родителей или близких родственников, а сам учащийся. В нем излагаются следующие обстоятельства: «Обучаясь в минувшем учебном году в Рязанской 3-й мужской гимназии, я проживал на квартире и столовался у своих родственников, которые в настоящее время после бывшего там в августе месяце пожара и взрывов порохового завода из Рязани выехали, а поэтому мне пришлось принять меры к подысканию другой квартиры. Все мои поиски к подысканию комнаты и хлебов не увенчались успехом, так как свободных комнат совсем не оказалось, а в особенности с полным пансионом, вследствие чего я нахожусь вынужденным перейти из Рязанской гимназии в гимназию другого города. Имея в городе Самаре родственников, которые изъявили желание взять меня на квартиру со столом, имею честь покорнейше просить педагогический совет не отказать принять меня в число учащихся второй Самарской гимназии в седьмой класс. При этом присовокупляю, что средств у меня никаких нет. Содержусь вместе с братьями и матерью на слишком незначительную пенсию после смерти отца» 17 .
Статьи и сообщения
Наряду со средними учебными заведениями, новых учащихся из западных губерний принимали и самарские школы других образовательных уровней, например, в Самарское 3-е высшее начальное училище имени Тургенева. В училища данного типа принимались лица в возрасте от 10 до 13 лет, закончившие курс начального (приходского) училища Министерства народного просвещения 18 .
Родители должны были предоставить следующие документы: метрическое свидетельство о рождении ребенка, «свидетельство о привитии оспы» ему, табель об оценках в выпускном отделении приходской школы. Они также брали обязательства: «1) наблюдать за исполнением сыном моим установленных начальством правил, 2) устранять его от употребления огнестрельного оружия, 3) в случае потери сыном моим училищной книги при порче училищного имущества уплатить их стоимость, 4) уведомить о перемене адреса» 19 .
Фонд училища имени Тургенева сохранился в ЦГАСО. В его составе есть дела с указанием детей-беженцев, нуждающихся в пособии 20 , и прошениями об их переводе сюда. Так, пометка «беженец» стоит на прошении мещанина католического вероисповедания г. Вильны (Вильнюса) И.К. Тышкевича. 16 сентября 1915 г. он попросил о принятии в первый класс своего 12-летнего сына Ивана. Тот прежде учился в Виленской губернии, ставшей тогда прифронтовой, в Надеждинском народном приходском училище Лидского уезда (ныне на территории Гродненской области Белоруссии) 21 .
Благодаря прошениям и другим документам можно выяснить имена учеников, которые официально не числились беженцами, но также уехали в Самару от военной угрозы. Официально не числился беженцем 13-летний Эдуард-Гейнрих, о принятии которого в училище имени Тургенева просил его отец Иоанн-Яков Пуро, крестьянин Юрьевского уезда Лифляндской губернии (ныне Тартуский уезд Эстонии). Причем и школу низшей ступени он закончил в Самаре (20-е смешанное приходское училище). Однако о том, что семья мальчика переехала в Самару только в 1914 г., говорит выданная ему тогда же справка о состоянии здоровья и прививках. О недавнем приезде его в коренную российскую губернию свидетельствуют также оценки, полученные в приходском училище. Самые низкие оценки за сентябрь-декабрь 1914 г. эстонский подросток получил по малознакомым для него церковнославянскому языку – «3», русскому устному – «3» и письменному – «3-». Однако он занимался весьма старательно. За четыре указанных месяца он пропустил
Статьи и сообщения
только три дня занятий, а в январе-марте 1915 г. вообще только один день. В результате он сдал очередные экзамены по русскому устному и письменному на «4», получил по ним годовые оценки «3+», не сумев улучшить только оценку по церковнославянскому 22 .
Иногда переезд в Самару оказывался временным. Стабилизация фронта после немецкого наступления 1915 года позволила вернуться в родной город минскому мещанину Иосифу Петровскому. Он в 1915 г. перевелся в Самару из 2-го Минского высшего начального училища. Об этом свидетельствует справка-удостоверение от 2 сентября 1915 г. В сентябре следующего 1916 г. он уже просил переслать метрическую выписку и аттестат из Самарского училища им. Тургенева на его почтовый адрес в Минск, не удержавшись от мальчишеской приписки на бланке прошения: «Привет из Минска». Как и вышеупомянутый гимназист К. Гаврилов, И. Петровский сам вел дела с училищным начальством и по поводу перевода в Самару, и по обратному переводу в Минск. Впрочем, он был уже довольно взрослым юношей, 1899 года рождения. Переводился он в Самарское высшее начальное училище сразу в 3-й класс 23 .
Таким образом, в прошениях о приеме и переводе в учебные заведения Самары обнаруживаются интересные свидетельства влияния драматических событий в Российском государстве на личную жизнь и судьбу людей в период Первой мировой войны и начавшейся революции. Дети и подростки школьного возраста, будучи одной из уязвимых социальных групп, весьма скоро и заметно почувствовали последствия потрясений устоев общества и миропорядка. В переходах из одних учебных заведений в другие в условиях военного времени скрывались глубокие причины, заставлявшие многих менять свою жизнь, покидать прежние места обитания и учебы. На начало 1916 г. в Самаре насчитывалось только официально зарегистрированных детей-беженцев 4 825 чел. 24 В эти трудные годы отдаленная от фронта Самара давала приют и место за школьной партой детям разных конфессий (православным, католикам, лютеранам, иудеям) и разных национальностей: русским, полякам, белорусам, евреям, эстонцам.
Список литературы Переводы школьников в учебные заведения Самары вследствие событий Первой мировой войны
- Артамонова Л.М. Бедствия Первой мировой войны как причины перевода в самарскую гимназию//Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. -Нижневартовск, 2014. -С. 109-111.
- Артамонова Л.М. Музыка в историко-культурном ландшафте Самары первой половины XX века//Профессиональное музыкальное искусство России: традиции и новаторство (Самара, 2011): Материалы Всерос. науч. конф. -Самара, 2012. -С. 8-27.
- Артамонова Л.М. Получение Самарой губернского статуса и расширение культурного пространства провинциального города//Городская культура и город в культуре. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. -Самара, 2012. -Ч. I. -С. 266-275.
- Басов Н.Ф., Аристова О.А. Опыт помощи беженцам в Костромской губернии в годы Первой мировой войны//Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. -2008. -Т. 14. -№ 3. -С. 270-274.
- Белов С.И. Законодательные акты как индикатор промышленного кризиса в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.)//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -2012. -№ 3. -Ч. 2. -С. 25-30.
- Васильев М.В. Беженцы Первой мировой войны и Псковская губерния//Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. -2014. -№ 40. -С. 170-177.
- Корепанов А.А. Из истории Озоно-Чепецкого сиротского приюта//Материальная и духовная культура народов Урала и Поволжья: история и современность: материалы Всерос. науч.-практ. конф. -Ижевск, 2013. -С. 28-32.
- Семенова Е.Ю. Мировоззрение городского населения Поволжья в годы Первой мировой войны (1914 -начало 1918 гг.): социальный, экономический и политический аспекты. -Самара: АНО «Издательство СНЦ РАН», 2012. -808 с.
- Чирков М.С. Проблема введения всеобщего начального обучения в Самарской губернии (1907-1914 гг.)//Наука и культура России: материалы II Междунар. конф. -Самара, 2005. -С. 33-34.