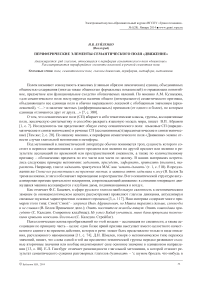Периферические элементы семантического поля «движение»
Автор: Буйленко Ирина Викторовна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Выразительные средства языка
Статья в выпуске: 1 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
Анализируется ряд глаголов, относящихся к периферии семантического поля «движение». Рассматриваются периферийные элементы языковой и речевой семантики поля.
Поле, семантическое поле, глаголы движения, периферия, метафора, метонимия
Короткий адрес: https://sciup.org/14822021
IDR: 14822021
Текст научной статьи Периферические элементы семантического поля «движение»
Полем называют совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений. По мнению А.М. Кузнецова, «для семантического поля постулируется наличие общего (интегрального) семантического признака, объединяющего все единицы поля и обычно выражаемого лексемой с обобщенным значением (архилексемой), <…> и наличие частных (дифференциальных) признаков (от одного и более), по которым единицы отличаются друг от друга…» [7, c. 380].
О том, что семантическое поле (СП) вбирает в себя тематические классы, группы, ассоциативные поля, лексическую синтагматику и способно раскрыть языковую модель мира, пишет В.П. Абрамов [1, с. 7]. Исследователь так представляет общую схему семантического поля: языковые СП (парадигматические и синтагматические) и речевые СП (ассоциативные) (парадигматические и синтагматические) [Там же; 2, с. 20]. По нашему мнению, к периферии семантического поля «Движение» можно отнести случаи глагольной метонимии и метафоры.
Под метонимией в лингвистической литературе обычно понимается троп, сущность которого состоит в переносе наименования с одного предмета или явления на другой предмет или явление в результате ассоциаций по временной или пространственной смежности, а также по количественному признаку – обозначению предмета по его части или части по целому. В наших материалах встретились следующие примеры метонимии: задымить , пригудеть , зафыркать , припылить ( пылить ), тарахтеть . Например, глагол задымить трактуется в МАС как ‘начать дымить’ (т. 1, с. 518). В предложении же Снова все разместились на прежних местах, и машина опять задымила к лесу (В. Белов За тремя волоками.) глагол обозначает перемещение в пространстве. В его семантической структуре актуализирован признак зрительного восприятия, сопровождающий движение: в сознании говорящего движущаяся машина ассоциируется с клубами дыма, поднимающимися в воздух.
Как отмечает Ф.С. Бацевич, в сфере русского глагола наибольшую склонность к метонимическим заменам (в ономасиологическом аспекте рассмотрения) проявляют глаголы движения, актуализируя смежные звуковые характеристики основного процесса [3, с. 117]. Наш материал содержит много примеров этого типа: Стой! Стой! – закричал Иван Африканович, но Мишка тарахтел дальше, словно бы и не слышал (В. Белов Привычное дело.); Опять посетители жалобы пишут. Опять кошкодавы при-гудят » (С. Каледин. Смиренное кладбище); Не успел Бабай умчаться, мимо бани процокала полненькими кривыми ножками Люсенька (С. Каледин. Стройбат).
Психологическая основа преобразований по этой модели – ассоциация по смежности, а также ассоциации по принципу часть – целое: один более яркий признак выступает вместо целостного качественного единого во времени действия, которое в речи может быть представлено только в виде описания, расчлененного наименования [11, с. 74]. Д.Н. Шмелев, говоря о метонимическом типе переноса значений, пишет, что слова одной и той же предметно-тематической группы нередко развивают сходные вторичные значения или вообще видоизменяют свое основное значение в одинаковом направлении [13, с. 88]. Е.Л. Гинзбург отмечает разновидности глагольной метонимии, к которой относит результат семантического сужения разговорных глаголов бултыхать – ‘с шумом бросать что-нибудь в жидкость’ и ‘бросаться с шумом в жидкость, бултыхнуться’, ср. бултыхать камень в воду – тело бултыхает в воду [5, с. 21].
Могут быть и иные смежные характеристики движения. Вчера, в День Победы, Кутя на правах хозяина принимал на кладбище гостей. Припылила пехота, кто смог (С. Каледин. Смиренное клаби-ще), то есть «прошла пыля» (сопутствующее действие и зрительное восприятие: ассоциация с клубами пыли, поднимаемой при движении по земле); К коровнику пылил самосва» (С. Каледин. Шабашка Глеба Богдышева).
Таким образом, в сфере глаголов движения, как и в сфере русского глагола вообще, случаи метонимических замен встречаются тогда, когда в семантической структуре слова актуализируются смежные характеристики основного процесса.
Под метафорой как единицей лексической системы языка в отличие от поэтического, художественного использования тропа понимается вторичное косвенное наименование, обладающее следующими признаками: 1) наличие связи со значением, послужившим источником метафоры, 2) присутствие образного элемента в значении [4, с. 32]. План содержания метафоры составляют две мысли, которые касаются различных предметов, но действуют сообща. Особенность содержания метафорических наименований заключается в их смысловой двуплановости, «игре» переносного и буквального значений слова, «смыла и образа» (Гегель), в одновременном указании на основной и вспомогательный субъекты сравнения, лежащего в основе метафоры. В отличие от сравнения, метафора, как отмечает В.П. Москвин, не сопоставляет еще друг с другом образ и смысл, а дает нам лишь образ, опуская настоящий смысл последнего; однако благодаря связи, в которой дан образ, метафора позволяет в самом образе сразу же распознать смысл, который действительно имеется в виду, хотя он явно не указан [9, с. 397].
Е.Ю. Ваулина отмечает, что на образование метафоры влияет специфика субъектно-объектных отношений глагола. Во-первых, образование метафорического значения может происходить при переносе субъекта, обозначаемого глаголом действия из одной семантической сферы в другую ( Птица парит в облаках – Человек парит в облаках ). Во-вторых, причиной метафоризации может послужить перенос объекта действия ( Человек погасил пожар – Человек погасил тревогу ). И, наконец, возможно сохранение субъекта (и объекта действия для переходных глаголов) с изменением лишь содержания действия при метафоризации ( Хлестать кнутом – Хлестать водку ) [4, с. 34]. Эти положения можно применить к глаголам движения. Рассмотрим некоторые случаи глагольной метафоры.
Итак, образование метафорического значения происходит:
-
1. При переносе среды передвижения при сохранении субъекта движения. Например: Павел с головой закутался в полушубок, набрал в грудь побольше воздуха и снова нырнул в огонь» (В. Белов. Год великого перелома); Микулин хотел было нырнуть от греха подальше в Жучковы ворота, но бабы сразу набросились на него… (В. Белов. Кануны); Два дня он потосковал в Матере без магазина и нырнул в новый поселок… (В. Распутин. Прощание с Матерой); Валерка занырнул в КПП и пальцем поманил за собой Костю (С. Каледин. Стройбат); Пьеро выныривает над ширмой (Л. Петрушевская. Квартира Коломбины).
-
2. При переносе субъекта из одной семантической сферы в другую и при переносе среды передвижения. Позицию субъекта движения могут занимать неодушевленные существительные, входящие в класс «средства передвижения»: сани, лодка, телега и т. д. Средой передвижения является суша. Например: Обоз с хлебом для фронта скрипел осями, телеги ныряли и переваливались в глубоких осенних выбоинах (В. Белов. Скакал казак); Первый автобус вынырнул из подорожных берез, и я бегом припустил к остановке (В. Белов. Гоголев). Однако если глагол сочетается с существительным дорога и т. п., то он теряет значение движения ( Дорожка вдруг вынырнула из леса на полянку (В. Белов. Привычное дело).
-
3. При переносе субъекта движения из одной семантической сферы в другую, например: Кое-где летела сверху вода, попадала за ворот (В. Белов. Год великого перелома).
-
4. При переносе субъекта движения с изменением содержания движения. Так, А.П. Чудинов отмечает, что абстрактизация глаголов перемещения в пространстве часто связана с их употреблением для обозначения социального перемещения, например: Микулин усидел-таки на своем месте, хотя многие – и не такие, как он, а поумней и пограмотней – полетели с постов (В. Белов. Год великого перелома) [12, с. 39]. Можно согласиться с высказыванием С. Ульманна о том, что чем выше частотность употребления слова, тем больше вероятность его многозначности [Там же, с. 9].
Глагол порхнуть. Кроме переноса субъекта и среды передвижения, основой для образования у данного глагола вторичного значения, как отмечает А.П. Чудинов, является ассоциативный признак ‘легко, без значительных усилий’, например: Маленькая легонькая адвокатесса порхнула за правый стол (С. Каледин. Стройбат) [12, с. 37]. Данный признак поддерживается лексическими средствами («маленькая легонькая»). Или глагол выпорхнуть: «Когда Люся вышла, Нинка выпорхнула следом» (В. Распутин. Последний срок).
Глагол течь . Данный глагол, являвшийся в XI – XIV вв. образователем моносемного поля синонимов – глаголов движения, претерпев на протяжении последующих веков существенные изменения, превратился в метафорический коррелят глагола бежать . Однако такая его метафоризация – явление очень давнее. Однако современное метафорическое употребление «глагола течь», как отмечает Д.Н. Шмелев, не является следствием собственно метафоризации, а остаточно отражает его древнее, более широкое значение [13, с. 120]. Иначе говоря, глагол течь испытал реметафоризацию.
Семантические сдвиги в значении глагола течь привели к тому, что в конце XVIII в. он перестал быть организующим центром синонимического моносемного поля глаголов движения и его место в XIX – XX вв. занял самый нейтральный из глаголов – идти с его соотносительной парой ходить , а глаголы течь и грясти в значении движения субъекта употребляются лишь как ярко выраженное стилистическое средство [8, с. 54–55].
В словарях глагол течь , обозначающий движение живых существ ( По улицам течет нарядная толпа ), сопровождается пометой «переносное». В наших материалах также встречаются подобные примеры: Процессия тихо текла на девятый участок (С. Каледин. Смиренное кладбище). То же самое можно сказать и о глаголе вытечь: Выход из казармы был узкий, в одну половину двери, и четвертая рота вытекала наружу в холодную ночь тонким ручьем (С. Каледин. Стройбат).
В заключение можно отметить, что одним из важнейших источников метафоризации и в то же время самым мощным объектом, привлекающим к себе метафоры, является семантическая сфера «Человек как социальное существо» [4, с. 34].
В.М. Живов и Б.А. Успенский отмечают наличие языковой и речевой периферии и говорят, что лингвисты к периферийной системе относят речевую деятельность, связанную с необычной речевой ситуацией (речь иностранца или носителя диалекта, заики, ребенка и т. п.; разговор с детьми, животными и т. п.); экспрессивные элементы с ориентацией на говорящего, апеллятивные – с ориентацией на слушающего; эмоциональную лексику, вокативы, обращения и т. п. [6, с. 24–25].
Мы считаем, что такие элементы можно отнести к периферии речевого семантического поля, хотя в речевой практике они встречаются не так уж редко. Таким образом, рассмотрев некоторые периферийные глаголы движения семантического поля движения, мы можем с уверенностью сказать, что данные слова гораздо ярче и выразительнее ядерных лексем.
Список литературы Периферические элементы семантического поля «движение»
- Абрамов В.П. Синтагматика семантического поля (на материале русского языка): Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 1993.
- Абрамов В.П. Семантические поля русского языка: монография. М.; Краснодар: Акад. пед. и соц. наук РФ, Кубан. гос. ун-т, 2003.
- Бацевич Ф.С. Семантико-синтаксический характер глагольной метонимии//Классы слов в синтагматическом аспекте: Сб. науч. тр. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. С. 114-122.
- Ваулина Е.Ю. О глагольной метафоре//Русская речь. 1993. №6. С. 32-39.
- Гинзбург Е.Л. Конструкции полисемии в русском языке. Таксономия и метонимия. М.: Наука, 1985.
- Живов В.М., Успенский Б. А. Центр и периферия в языке в свете языковых универсалий//Вопросы языкознания. 1973. №5. С. 24-35.
- Лингвистический энциклопедический словарь/Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. Энциклопедия, 1990.
- Липатов А.Т. Субполя синонимов и роль моносемы-константы в формировании их системы//Филологические науки. 1984. № 5. С. 50-58.
- Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры: терминологический словарь. Изд. 3-е, испр. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2007.
- Словарь русского языка: в 4-х т.т./под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981-1984.
- Сиротина В.А. Метонимия и метонимический эпитет в художественной речи//Вопросы языкознания. 1980. № 6. С. 72-77.
- Чудинов А.П. Регулярная многозначность в глагольной лексике: учеб. пособие к спецкурсу. Свердловск, 1986.
- Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М.: Наука, 1973.