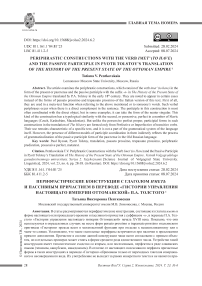Перифрастические конструкции с глаголом иметь и пассивным причастием в переводе "Гистории управления настоящаго империи Оттоманской" П.А. Толстого
Автор: Пентковская Т.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 6 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются перифрастические конструкции, состоящие из глагола иметь в форме настоящего или прошедшего времени и пассивного причастия с суффиксом -н-, в переводе П.А. Толстого «Гистории управления настоящаго империи Оттоманской» начала XVIII века. Показано, что они используются в определенных случаях на месте форм passato prossimo и trapassato prossimo итальянского оригинала «Гистории» прежде всего в метатекстовой функции при отсылке к вышеизложенному или к чьим-то словам. Установлено, что такие глагольные перифразы встречаются при наличии в предложении прямого дополнения. Причастие в составе данной конструкции чаще всего согласовано с прямым объектом, но в отдельных примерах может стоять в форме среднего рода единственного числа. Устройство такой конструкции имеет типологическое сходство со вторым, или посессивным, перфектом в ряде славянских языков (чешском, кашубском, македонском). В отличие от настоящего посессивного перфекта причастные формы в таких конструкциях в переводе «Гистории» образованы только от переходных глаголов совершенного и несовершенного вида. Их употребление не выходит за рамки конкретного текста и не является принадлежностью грамматической системы языка. В то же время наличие в них разных моделей согласования причастия косвенно отражает процесс грамматикализации пассивной причастной формы прошедшего времени в старорусском языке.
Пол рико, петр толстой, перевод, passato prossimo, trapassato prossimo, перифрастическая предикация, посессивный перфект, метатекст
Короткий адрес: https://sciup.org/149147511
IDR: 149147511 | УДК: 811.161.1’04:81’25 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.6.2
Текст научной статьи Перифрастические конструкции с глаголом иметь и пассивным причастием в переводе "Гистории управления настоящаго империи Оттоманской" П.А. Толстого
DOI:
«Гистория управления настоящаго империи Оттоманской» была переведена П.А. Толстым с итальянской версии книги Поля Рико «The History of the Present State of the Ottoman Empire» (Ricaut, 1686) в период его пребывания в Османской империи с 1702 по 1714 год. Перевод сохранился в двух списках XVIII в.: БАН, ф. 31.3.22 (в этой рукописи имеется запись с указанием имени переводчика) и БАН, ф. 34.5.28. Последняя рукопись содержит редакторскую правку, внесенную при подготовке перевода к печати, которая, однако, была осуществлена лишь в 1741 г. (Рикот, 1741). Печатный текст перевода имеет другое название – «Монархия Турецкая», что связано с привлечением на последнем этапе работы польской версии (Rycaut, 1678) этого сочинения, которая, как и итальянская (Rycaut, 1672), восходит к французскому оригиналу (Rycaut, 1670) [Николаев, 2020; Соколов, 2023, с. 22].
Перевод П.А. Толстого, не будучи вполне буквальным, тем не менее достаточно близко следует своему оригиналу, в ряде случаев отражая его грамматические структуры. Так, в «Гистории» встречаются аналитические конструкции с глаголом иметь и пассивным причастием прошедшего времени типа имеемъ / имели сказано . Они соотносятся с различными временными формами глагола avere с причастием в итальянском оригинале. Однако итальянские формы со вспомогательным глаголом avere переводятся такого рода кальками далеко не всегда.
Ниже мы попытаемся выявить закономерности в употреблении данных аналитических конструкций в переводном тексте Петровской эпохи, а также продемонстрировать такие особенности их употребления, которые можно интерпретировать как проявление языковой личности переводчика, знакомого с традициями церковнославянского и делового старорусского языка, а кроме того, уверенно владеющего иностранным неславянским языком. Рассматриваемый частный феномен перевода дает нам также возможность на конкретном примере продемонстрировать некоторые тенденции развития грамматических форм и конструкций, общих для ряда славянских и неславянских языков (формы перфекта и пассивного причастия прошедшего времени).
Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили две упомянутые выше рукописи «Гистории» в сопоставлении с текстом издания 1741 года. Текст русского перевода цитируется по рукописи БАН, ф. 31.3.22, которая, хотя и является беловиком, по нашим наблюдениям, содержит текст, максимально близко из всех имеющихся источников отражающий работу самого переводчика. При привлечении правленой рукописи БАН, ф. 34.5.28 и печатного текста обсуждаются только исправления, имеющие отношение к рассматриваемой конструкции. Стратегии русского переводчика в выборе глагольных форм и конструкций раскрываются на фоне польского перевода, который, как это уже было показано исследователями, привлекался на финальном этапе подготовки перевода к печати. В свою очередь это потребовало подведения параллелей французской версии «Гистории», от которой зависит и итальянский перевод.
Результаты и обсуждение
Наиболее многочисленные случаи появления перифрастических конструкций с глаголом иметь – ссылка на вышесказанное, а также чьи-то слова. Чаще всего здесь вслед за итальянским оригиналом выбирается форма 1 л. мн. ч. в значении ед. ч. (авторское «мы»). В этих случаях с помощью кальки переводчиком маркируется метатекстовая функция данной формы.
БАН 31.3.22 ωное что Iм ѣ емъ сказано есть довольно для показания корреспон’денцыи каторую им ѣ ютъ татары со уп’равлениемъ турец’кимъ (гл. 13, ч. 1, л. 77), то же БАН 34.5.28 (л. 48 об.) – Quello che habbiamo detto è baſteuole à dimoſtrare le correlazioni che hanno i Tartari col Gouerno de’Turchi (с. 83). В печатном тексте форма исправлена на прошедшее время: Оное что им ѣ ли сказано (с. 77).
В польском переводе «Монархии» используется перфект: To com powiedźiał / do ʃ yć będźie do wyrozumienia / iákie ie ʃ t miedzy Turkámi á Tátárámi ziednoczenie (s. 75) – Ce que nous venons de dire ſuffit, pour faire voir quelle relation ont les Tartares avec le gouvernement des Turcs (р. 191). Французский переводчик выбрал в данном контексте форму passé récent ‘то, что мы только что сказали...’.
Строго однозначного соответствия итальянских и русских форм причастий в таких конструкциях не наблюдается, однако можно выделить предпочтительный перевод: так, наиболее часто встречающаяся в таких контекстах форма сказано 13 раз переводит форму detto , 10 раз форму parlato , 1 раз raccontato , 1 раз notato . Причастие говорено 2 раза переводит форму parlato , 1 раз форму detto . Дважды отмечается форма показано , которой 1 раз переводится причастие dimostrato , и еще один – каузатив ( habbiamo ) fatto videre . Причастие detto , помимо названного, 1 раз переводится как писано . Отметим, что причастные формы образованы от переходных глаголов обоих видов.
В рукописях зафиксировано всего 30 форм 1 л. мн. ч. типа им ѣ емъ сказано , из них в 15 случаях в печатном тексте читается форма прошедшего времени им ѣ ли сказано . Только в 3 случаях для таких исправлений есть лексическая поддержка, в частности, БАН 31.3.22 По везире аземъ Iли первомъ везире о ко-торомъ Iм ѣ емъ говорено в’ прошедшеи глав ѣ посл ѣ дуютъ беглербеи каторые могутъ s ѣ ло дабро [печ. текст добр ѣ ] прировнятися [печ. текст уподобїтся ], арцы дукамъ (!) европ’скимъ
(гл. 12, ч. 1, л. 64 об. – 65), то же БАН 34.5.28 (л. 39 об.) – Dopo il Visir Axem, ò primo Visir, del quale habbiamo parlato nel precedente Capitolo; Seguono gli Beglierbeijs, li quali possono molto bene paragonarsi à gli Arciduchi d’Europa (р. 71). В печатном тексте читается им ѣ ли говорено (с. 65). Наличие в предложении па-рентетического обстоятельства (в прошедшей главе) позволяет интерпретировать рассматриваемую форму как имеющую событийное (фактическое) значение.
В польском переводе и в этом случае используется форма перфекта в соответствии с формой passé composé: Po Wezyr Azem, álbo naywyżßym Wezyrze / o ktorymem w Rozdźiele przeßłym mowił / pierwßi ʃ ą Beglerbeiowie, ktorych może niby do Arcy= Ӿ iążąt iákich w Ewropie przyrownáć (s. 62) – Aprés le Viſir Azem, ou Premier Viſir, dont nous avons parlé dans le Chapitre précédent, viennent les Beglerbeys, que l’on peut aſſez bien comparer à quelques Archiducs de l’Europe (p. 160–161).
Исправления настоящего времени вспомогательного глагола на прошедшее время вместе с тем не являются регулярными, о чем свидетельствует следующий пример, в котором время осталось без замены: БАН 31.3.22 < генералу >... послан’ному в’ заточение въ бос’форъ в’ предреченную фортецу о каторои Iм ѣ емъ уже сказано (гл. 19, ч. 1, л. 117), то же БАН 34.5.28 (л. 75) и в печатном тексте (с. 114) – e mandato prigione ſopra il Bosforo nello ſteſſo Caſtello di cui habbiamo già pariato (р. 118). Ср.... wſádzony był do Kaſztelu nád Morzem / com go dopiero wſpomniał (s. 109) – ...et envoyé priſonnier ſur le Boſphore, dans le Château dont nous venons de parler (p. 279). Во французском тексте находится passé récent ‘о котором мы только что говорили’, которую польский переводчик передает перфектом с добавлением нар. dopiero ‘только что’, ‘сейчас’.
При достаточной систематичности подобного перевода встретился и случай передачи такой формы отсылочного характера обычным (неанатилическим) прошедшим временем: БАН 31.3.22 и понеже величество сал-таново есть [ какъ уже сказали ] чїнїт им ѣ ти чиновъ и степенеи множеству б ѣ с’конечному людеи каторые обр ѣ таются близ его... (гл. 17, ч. 1, л. 103), то же БАН 34.5.28 (л. 67) и печатный текст (с. 102) – E perche la grandezza del
Sultano è (come già habbiamo detto) di prouedere di Cariche, ed impieghi vn’infinità di gente, che gli latrano vicino... (p. 108). Не исключено, что в данном случае переводчик не использует перифрастическую кальку, чтобы избежать повтора глагола им ѣ ти .
Четкое различение отсылочного авторского «мы» и повествования от 1-го лица хорошо видно в следующем примере, в котором формы прошедшего времени я видел и я слышал , относящиеся к собственным наблюдениям повествователя, соседствуют с аналитической формой 1 л. мн. ч. при ссылке на написанное выше: БАН 31.3.22 сие что я слышалъ от единаго ихъ сехиджи или казно-дея началника сего устава. Оные им ѣ ютъ мнстырь в’ констянтинополи какъ и др ɤ гие о каторыхъ им ѣ емъ сказано и не виделъ я ни в’ семъ граде столичномъ ни в каком иномъ м ѣ сте в’ земле владения т ɤ рецкаго во европе что бы были иные монастыри сего устава кром ѣ вышереченныхъ можетъ быть что есть близ вавилона во егип’т ѣ и во странахъ далечаїшїхъ аsиї каторыхъ не напїсахъ з’десь имянъ и правилъ (гл. 20, ч. 2, л. 194 об.) – Queſto è quel che hò vdito raccontare da vno de’loro Scheigi, ò predicatori, ſuperiore di queſt’ordine. Eglino hanno vn Monaſtero à Coſtantinopoli, come gli altri de’quali habbiamo parlato ; e non hò veduto , ne in queſta Città Dominante, ne in alcun’altro loco delle Terre, che’l Turco poſſiede in Europa, che vi ſiano altre Tekes ò Caſe religioſe di quelli ordini. Può eſſer che ve ne ſiano verſo Babilonia in Egitto, e nelle parti più lontane dell’Aſia, de’quali non hò qui rapportato li nomi, nè le regole (р. 208). БАН 34.5.28 я слышал... им ѣ ем сказано... не видалъ я... не написал (л. 137 об. – 138), то же в печатном тексте (с. 198), то есть аорист 1 л. ед. ч. заменяется л -формой. Во всех случаях в итальянском тексте находятся формы passato prossimo, однако при отсылке к вышеизложенному употреблена форма 1-го л. мн. ч., и именно ее буквально воспроизводит Толстой.
В польском переводе указанная форма никак не выделяется из ряда других, причем переводчик не использует форму 1 л. мн. ч., которая есть в его французском оригинале: dał informácią... o ktorychem powiedźiał... niemogłem widźieć... niewiem... ktorych... opiſáć nie mogę (s. 183) – j’en ay appris... dont nous avons parlé... je n’ay point remarqué... dont je n’ay pas rapporté (p. 477–478). Последняя форма passé composé переводится настоящим временем: ‘названий которых не знаю и правила описать не могу’.
Обнаружен также случай появления калькированной аналитической формы 3 л. ед. ч. при субъекте в Им. п.: БАН 31.3.22 Понеже какъ Iм ѣ етъ s ѣ ло добрщ 2 написано великиi канцл ѣ р баконъ во единомъ своемъ Iспытаниi всякая монархия [ глаголетъ онъ ] въ каторои не есть ни едино бл ҃ городство есть едино совершенное мучителство яко есть оная Турецкая (гл. 16, ч. 1, л. 89), то же БАН 34.5.28 (л. 87 об.) и печатный текст (с. 90) – perche come hà molto ben deſcritto il Gran Cancelliere Baccon in vna delle ſue proue; ogni Monarchia (diſs’ egli) in cui non è alcuna Nobiltà è vna pura Tirannia, come è quella delli Turchi (р. 96).
В польском переводе форма passй composй переведена, как и в других случаях, перфектом: Gdyż iáko dobrze namienił wielki Kánclerz Bacon (s. 87) – comme l’ a fort bien remarqué le grand Chancelier Bacon (p. 222). Вставное предложение в этом переводе отсутствует, как и во французском тексте. В английском оригинале находится настоящее экспозиционное время: as my Lord Verulam 3 ſays , Eſſay 14 (p. 128).
Важно отметить, что для передачи формы 3 л. passato remoto disse Толстым используется настоящее экспозиционное глаголетъ . Настоящее экспозиционное время глаголов речи, мысли и передачи информации вне последовательности оконченных действий отсылает к действию, совершившемуся в прошлом, однако имеющему, скорее, надвременной характер: Как говорит Экклизиаст... ; как пишет В.В. Виноградов... ; Гоголь изображает мелкопоместное дворянство . Оно используется в современном языке при цитировании, интерпретации чужого мнения, научном анализе [Зализняк, Шмелев, 2000, с. 29; Петрухина, 2009, с. 138]. Традиция использования этой разновидности настоящего неактуального восходит к раннему периоду функционирования церковнославянского языка на Руси. Так, оно широко представлено в старшем восточнославянском по происхождению переводе Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского, появившемся в конце XI в. Толкование на Ин. 1:3 Τραν§ς
Y«p evrauOa a^Zov sTvai tov Л6Yov, Kal aZZov tov Патера, KnpvTTEi o ^EYag ’Iraavvng / ^сно бо зде иного быти слова. иного же и оц҃а проповѣдаеть великїи Іоаннъ ТСЛ110 (л. 215). В этом переводе при ясной тенденции к отражению форм настоящего неактуального оригинала формами настоящего же времени фиксируются случаи, когда греческим аористу и имперфекту соответствуют в переводе формы настоящего времени, и наоборот «презенс в этих значениях используется наряду с аористом и имперфектом и в их окружении» [Метлова, 2021, с. 112]. С использованием настоящего экспозиционного П.А. Толстой вполне мог быть знаком по подобного рода церковнославянским текстам. Такое употребление функционально сближается с рассматриваемыми перифрастическими конструкциями в отсылочной функции: как пишет / имеет написано канцлер Бакон .
Прочие случаи употребления аналитической конструкции не составляют монолитной группы с семантической точки зрения. Их, однако, объединяет наличие во фразе прямого дополнения.
При наличии в предложении зависимого от глагола им ѣ ть прямого объекта, выраженного им. сущ. или мест., причастие согласуется с ним по числу: БАН 31.3.22 Магометъ по-слалникъ Бж ҃ иi посланныi для научения людеи I для изъяснения Iстинного его Божественные воли Iм ѣ ю написаны в ѣ щи посл ѣ дующие еже есть что вера християнская sапов ѣ данна ѿ Бг ҃ а можетъ быть свободна во всех странахъ восточныхъ и западныхъ (л. 131 об.), то же БАН 34.5.28 (л. 88–88 об.) и печатный текст (с. 132) – Mahometto Meſſaggiero di Dio inuiato per addottrinare gli huomini, e per dichiarare loro realmente la ſua Diuina volontà, hà ſcritto (3 л. ед. ч.) le coſe ſeguenti, cioè. Che la cauſa della Religione Criſtiana, ordinata da Dio poſſa reſtare libera in tutte le parti dell’Oriente, e dell’Occidente (p. 136).
В польском переводе, вслед за французским оригиналом, используется перфект 3 л., относящийся к субъекту предложения: Mahomet Poſłániec Boży... napisał rzeczy tu połozone (s. 125) – Mahomet Meſſager de Dieu... a écrit les choſes ſuivantes (p. 320).
Таким образом, в воспроизведении документа происходит изменение лица глагола с 3-го на 1-е в интитуляции, что, вероятно, мо- жет быть связано со спецификой оформления документов в русской среде. При этом, как и в итальянском тексте, в русском переводе не используется так называемое «множественное величия», в принципе характерное для княжеских и царских грамот уже в предшествующий период [Ельчанинова].
БАН 31.3.22 пов ѣ ствование каторое Iм ѣ емъ учинено о управ’ленияхъ и о ихъ до-ходахъ служитъ к показанию силы и величества империi отаманскои (гл. 12, ч. 1, л. 72), то же БАН 34.5.28 (л. 45 об.) и печатный текст (с. 72) – Il racconto, che habbiamo fatto de Gouerni, e delle loro entrate, ſerue à dimoſtrare la forza, e grandezza dell’Imperio Ottomano (р. 78). В польском переводе перфект отсутствует: Ták okoliczne wyliczenie wßytkich Prowinciy / y Powiatow / z opiſániem ich rządow / y dochodow / ſnádno kożdemu pokázáć może potęgę y wielkość Páńſtwá Ottomáńſkiego (s. 70) – ‘так обстоятельный подсчет всех провинций и областей с описанием их управлений и доходов может легко показать каждому силу и величие Османской империи’. Во французской версии употребляется passé récent: Le dénombrement que nous venons de faire de ces Gouvernemens, et de leur revenu ſert à faire voir la puiſſance et la grandeur de l’Empire Ottoman (p. 178) – ‘Подсчет, который мы только что провели’.
Подобные закономерности характерны и для перевода trapassato prossimo. Как правило, формы trapassato prossimo переводятся обычным прошедшим временем. В некоторых случаях, однако, появляется калькированная аналитическая форма со вспомогательным глаголом иметь и пассивным причастием, которое согласовано с дополнением по роду и по числу: БАН 31.3.22 Сеи чл ҃ вкъ им ѣ лъ собрано такъ великое множество вещеи драгωцен’ныхъ о которых подробну сказыва-ти докучило бы читателю (гл. 12, ч. 1, л. 73), то же в БАН 34.5.28 (л. 46) и в печатном тексте (с. 73) – queſt’huomo haueua vnita ſi gran quantità di coſe prezioſe, che l’Inuentario riuſcirebbe noioſo (p. 79). В польском находится форма перфекта: Ten... názbierał (s. 71) – Cét homme avoit entaſſé (p. 181).
В следующих примерах причастие согласуется c прямым дополнением по числу: БАН 31.3.22 понеже не видимъ никогда въ ихъ Iсторияхъ чтобы были намерены опу- стошить провинцыi каторые Iмѣютъ за-воеванны (гл. 15, ч. 1, л. 86 об.), БАН 34.5.28 которые имѣли завоеванны (л. 55), то же печатный текст (с. 87) – perche non veggiamo mai nelle loro Iſtorie, che ſi ſiano applicati à ſpopolare i paeſi, che haueuano acquiſtati (p. 93). В польском переводе, как и во многих других случаях, употреблен перфект: Páńſtwá ktorych doſtáli (s. 84) – les païs, qu’ils avoient conquis (p. 215).
Ниже находится схожий контекст: БАН 31.3.22 понеже римляне строили Iхъ городы в средине мира учинили законъ каторои воздерживалъ ихъ гсдреи чинили по хотению народовъ которых им ѣ ли за-воеванны (гл. 15, ч. 1, л. 87), БАН 34.5.28 которыхъ им ѣ ли завоеванных (л. 55 об.), то же печатный текст (с. 87) – perche i Romani edificarono le loro Città nel mezzo della Pace; fecero leggi che moderauano l’arbitrio de’ loro Principi, s’aggiuſtauano al genio de’popoli, che haueuano soggiogati (р. 93). В печатном тексте отражается чтение рукописи БАН 34.5.28, где причастие согласовано и в числе, и в падеже с мест. который . На изменение формы причастия, вероятно, оказала влияние известная в церковнославянском языке конструкция Accusativus duplex, поскольку здесь Вин. п. прямого дополнения находится рядом с Вин. п. именной части сказуемого.
Как и в прочих случаях, польский перевод не повлиял на русский, ср. do honoru Narodow zwyćiężonych (s. 84) – des peuples qu’ils avoient conquis (p. 216). В данном случае польский переводчик выбрал форму причастия в атрибутивной функции ‘побежденных народов’, не воспроизводя придаточное предложение французского оригинала.
В одинаковых контекстах при одинаковых формах trapassato prossimo в первом случае вспомогательный глагол haueuano переводится настоящим временем (с последующей правкой на прошедшее), а во втором – прошедшим. На выбор формы настоящего времени вспомогательного глагола мог повлиять аналогичный перевод passato prossimo.
Наконец, отмечаются единичные примеры, когда при передаче форм passato prossimo с помощью рассматриваемой аналитической конструкции причастие в ней ставится в форму ед. ч. ср. р.
БАН 31.3.22 Варварство и ложное мнение махωметанское не было такъ против’но вещемъ свещен’нымъ чтобы отнять ее [ церкви ] доходы но еще против’но Iм ѣ ютъ охранено и возращено в’ такои м ѣ ре что можетъ срав’нятися со основаниями богатеишими во всем християнст’ве (гл. 7, ч. 2, л. 148), то же БАН 34.5.28 (л. 103) и печатный текст (с. 149) – La Barbarie, e la Superſtizione Mahomettana non è ſtata così ſacrilega, che habbia toccate le ſue entrate; anzi al contrario le hà conſeruate, ed accreſciute in guiſa tale, che può andar del pari, con le fondazioni più ricche di tutta la Criſtianità (p. 155). В итальянском тексте форме passato prossimo предшествует дополнение, в русском переводе формально оно не выражено, но подразумевается ( доходы ).
В польском переводе, как обычно, находятся формы перфекта: záchowáłá y przyczyniłá (s. 140) – elle les a au contraire conſervez, et augmentez (p. 361).
Во втором обнаруженном случае от аналитической конструкции с причастием на - н - зависит прямое дополнение: БАН 31.3.22 турки мнили противность свещенству отлучить совершенно от служения божественнаго х’ каторому была определена хотя м ѣ сто оное дивное не позволяло чтобы другои вещи служило токмо для строения пребывания салтанскаго Iм ѣ ютъ приложено едину аспру болши чтобы показати что тысящи не было довол’но за оную землю и чтобы могло при-бавлятися по милости салтанскои (гл. 7, ч. 2, л. 148 об.), то же в БАН 34.5.28 (л. 103 об.) и в печатном тексте (с. 150) – li Turchi ſtimarono vn ſacrilegio di ſeparare totalmente dal ſeruigio Diuino, al quale era deſtinato; ancorche il ſito ſuo ammirabile non permetteſſe, ch’ad’ altra coſa ſeruiſe, che à fabricare l’abitazione del Sultano. Gli hanno giunto vn’Aſpro di più, per far vedere, che li mille non erano baſteuoli per l’vſo, che ſi faceua delle terre della Chiesa, e che ſi poteuano accreſcere, conforme la pietà, e la deuozione de gl’Imperadori (p. 156). В польском переводе употреблен перфект: Przydáli iednę áſprę ná wzwyß (s. 141) – Ils ont ajoûté vne Aſpre de plus (p. 363).
Прямого соответствия этой конструкции в русских диалектах не обнаруживается, но нельзя не отметить определенное сходство формы причастий в этих конструкциях с пре- дикативными конструкциями с причастиями на -н-/-т- от переходных глаголов преимущественно СВ в форме ср. р.: У самого на-складывано песен; У соседки овцу на план выпущено (с прямым доп. в ед. ч. ср. р.) [Соболев, 2000, с. 211].
Выводы
Обзор материала показывает, что в переводе «Гистории» встречается несколько разновидностей аналитической конструкции с глаголом иметь и причастием на - н - (от переходных глаголов преимущественно совершенного вида):
-
1) аналитическая форма глагола без формально выраженного субъекта и без прямого объекта; причастие стоит в ед. ч. ср. р. ( имеемъ написано );
-
2) аналитическая форма глагола с субъектом в Им. п. и без прямого объекта; причастие стоит в ед. ч. ср. р. ( канцлер имеетъ написано );
-
3) аналитическая форма глагола с прямым объектом, причастие в составе данной конструкции согласуется с ним в роде, падеже, числе ( провинции, которые имеют завоеваны ; имеетъ собрано множество вещей );
-
4) аналитическая форма глагола с прямым объектом, причастие в составе данной конструкции стоит в ед. ч. ср. р. ( имеютъ приложено едину аспру ).
Рассматриваемая конструкция в целом обнаруживает типологическое сходство с так называемым славянским перфектом, точнее, с конструкцией типа Перфект II. Эта конструкция имеет два ареала распространения – среднеевропейский и балкано-средиземноморский, а ее возникновение рассматривается как один из конвергенционных процессов в европейских языках [Načeva-Marvanová, 2010, s. 175]. Так, конструкции с глаголом иметь (в любой форме, в том числе и в настоящем времени) в сочетании с причастием на no-/to- характерны для чешского языка: Jsem rád, že mám dopsáno. ‘Я рад, что я уже дописал (букв. имею дописано)’; Ten má naplánováno stát v čele společnosti. ‘Он запланировал (букв. имеет запланировано) возглавить компанию’. При отсутствии в предложении прямого объекта используются краткие причастия ср. р. ед. ч. на no-/to-: máme vĕci sbalené / máme sbaleno ‘у нас вещи собра- ны / мы собраны’. При этом в конструкциях без прямого объекта встречаются глаголы, от которых не должны образовываться страдательные причастия: má na mĕ spadeno ‘он на меня зол’ (от spadnout ‘упасть’, ‘обрушиться’) [Изотов, 2018, с. 62–63; Скорвид, 2017, с. 268–269]. На развитие таких форм в западнославянских языках, вероятно, оказал влияние немецкий язык, так как калькированные перфектные конструкции известны также в кашубском: On mô zeżniwiony / zeżniwioné ‘Он сжал (поле)’, а также в полабском, где подобные формы со страдательным причастием прошедшего времени имели активное (перфектное) значение: mo voijădonĕ ‘он съел’, букв. ‘имеет съедено’, ср. нем. hat aufgegessen [Дуличенко, 2017, с. 421; Супрун, 2017, с. 441].
Подобное устройство имеет и так называемый второй, или посессивный, перфект в македонском – это конструкции типа имам дојдено ‘я пришел’ (букв. я имею прийдено), которые состоят из полноспрягаемого вспомогательного глагола има ‘иметь’ и пассивного причастия в форме ср. р. ед. числа. Такой перфект, в отличие от зафиксированных у Толстого форм, может быть образован от переходных и непереходных глаголов обоих видов. В западномакедонских диалектах он выражает весь спектр значений перфекта [Макарова, 2016, с. 223, 229].
Появление таких конструкций в маке- донских диалектах относится как раз к перио- ду раннего Нового времени. Старший пример употребления подобной формы находится в приписке в рукописи из монастыря Крнино, датированной 1706 г.: кои кетъ мислитъ да го оукрадетъ имамъ гѡ а
форесанъ и проклетъ
и
завезанъ до страшенъ сꙋтъ ‘Кто подумает его украсть, того я объявляю (букв. имею) отлу- ченным, проклятым и обреченным до Страшного суда’ (перевод А.Л. Макаровой). На начальном этапе своего распространения, как видно в данном случае, такие конструкции могли быть согласованы по роду [Конески, 2021, с. 205–206; Макарова, 2016, с. 224–225].
Примечательно, что посессивный перфект «с ярким результативным оттенком значения» и только от переходных глаголов совершенного вида изредка встречается и в других южнославянских языках – сербском и болгарском (фракийские диалекты), но его функционирование в них не является нормативным. Его появление в болгарских диалектах объясняют контактами с греческим языком, не исключается также и влияние албанского. В то же время считается наиболее вероятным, что македонский язык мог калькировать посессивный перфект из арумынского, где, однако, причастие ставится в ж. р. [Конески, 2021, с. 205; Макарова, 2016, с. 225, 231].
Таким образом, употребление рассматриваемых форм в языке Толстого и македонские формы типа имам доjдено объединяются влиянием романской грамматической системы – арумынской в одном случае и итальянской в другом. Однако такие формы у Толстого оказываются принадлежностью только одного его перевода, то есть функционируют на уровне текста, а в македонском они с течением времени входят в языковую систему.
Важнейшим функциональным сдвигом, отмечаемым для македонского языка, является потеря причастием в составе второго перфекта залогового значения пассива. Это сближает западномакедонскую систему с севернорусскими диалектами, где пассивное причастие на - н /- т - выходит за рамки категории залога, то есть используется за пределами пассивных конструкций (см. об этом.: [Макарова, 2016, с. 231; Соболев, 2000, с. 214]).
Следует отметить, что уже с конца XVI в. в старорусских памятниках фиксируется употребление причастных форм на - н -/- т - в аористном значении, для обозначения действия, «целиком отнесенного к прошлому». В зависимости от сочетаемостных свойств причастия выделяется пять типов такого использования [Ермолова, 2023]:
-
1) причастие согласуется с объектом действия в Им. п.: запасу небольшое место осталось, а первой разграблен весь ;
-
2) причастие в ср. р. с объектом в Род. п., обозначающим неопределенное количество вещества или предметов: покупано овса и сена ;
-
3) причастие в ср. р. в безличном предложении (объект отсутствует). Такое причастие могло быть образовано как от переходных, так и от непереходных глаголов: никому ни в чем не сьлыгивано ни манено ни пересрочено ;
-
4) причастие в ср. р., не согласуемое с объектом в Им. п.: И земля, и пожни, и всякие угодья не делено и не межевано ;
-
5) причастие в ср. р. с объектом в Вин. п.: кровлю укрыто . Этот тип конструкции традиционно считался полонизмом, однако в настоящее время предполагается, что это общая инновация, присущая ареалу от польского до северорусского, которая включает в себя украинский, белорусский, литовский и латышский языки [Seržant, 2012, p. 371].
М.В. Ермолова полагает, что данный тип конструкции был присущ старорусскому языку в целом и отражает процесс грамматикализации причастий на - н -/- т - и их превращения в финитную форму (при отсутствии необходимости указания на субъект). Этот процесс проходит три стадии: 1) причастие в аористном значении согласуется с объектом действия в Им. п.; 2) причастие стоит в несо-гласуемой форме ср. р. при объекте в Им. п.; 3) причастие стоит в несогласуемой форме ср. р. при объекте в Вин падеже. Первый и второй этапы прослеживаются хорошо, тогда как третий этап представлен единичными примерами [Ермолова, 2023, с. 57–61].
В тот же период аналогичный процесс превращения причастия на - н- /- т - в финитную форму начался в украинском и белорусском языках. Если в настоящее время в белорусских говорах отмечаются только реликты подобных форм, то в украинском такие формы, управляющие Вин. п., употребляются как в претеритном (событийном), так и в результативном значении ( обмежено рух транспорту ). В претеритном значении причастия на - no- /- to- употребляются в польском, где процесс их грамматикализации достиг финальной стадии [Ермолова, 2023, с. 59; Seržant, 2012, p. 365, 383]. Важно отметить, что процесс грамматикализации причастной формы на - н -/- т - как в аористную, так и в результативную формы проходил одинаковые этапы, причем сначала причастие согласуется с объектом, потом утрачивает согласование, а объект может получать форму Вин. п. [Ермолова, 2023, с. 61]. Как представляется, именно наличие в старорусской языковой системе данного процесса и дает возможность Толстому в некоторых случаях использовать кальки итальянских аналитических форм.
Определенную поддержку рассматриваемым конструкциям у Толстого оказывает и длительная экспансия глагола иметь в со- ставе различных сочетаний с инфинитивом и с им. сущ. в русском языке XVIII в., которая подпитывалась, с одной стороны, влиянием различных европейских языков, а с другой – церковнославянским наследием [Хютль-Ворт, 1974, с. 149–151].
Таким образом, у русского переводчика появляется дополнительная возможность использовать маркированные аналитические формы в различных аспектах, прежде всего в отсылочной (метатекстовой) функции. Наличие глагольной перифразы выделяет форму в ряду других, то есть в определенных случаях позволяет использовать кальку как стилистический прием. Примечательно, что польский перевод в данном случае (как и во многих других) не оказывает никакого влияния на русский текст при редактуре, а сам польский переводчик не калькирует аналитические глагольные формы своего оригинала.
Список литературы Перифрастические конструкции с глаголом иметь и пассивным причастием в переводе "Гистории управления настоящаго империи Оттоманской" П.А. Толстого
- Дуличенко А. Д., 2017. Кашубский язык // Языки мира. Славянские языки. СПб.: Нестор-История. С. 410–432.
- Ельчанинова О. Ю., 2016. Специфика формуляра и видовое многообразие русских грамот XVII века // Актуальные проблемы российского права. № 10 (71). С. 21–26. DOI: 10.17803/1994-1471.2016.71.10.021-026
- Ермолова М. В., 2023. К вопросу о грамматикализации страдательных причастий прошедшего времени в старорусском языке // Вопросы языкознания. № 4. С. 47–64. DOI: 10.31857/0373658X.2023.4.4764
- Зализняк А. А., Шмелев А. Д., 2000. Введение в русскую аспектологию. М.: Яз. рус. культуры. 225 с.
- Изотов А. И., 2018. Чешский язык. М.: МАКС Пресс. 160 с.
- Конески Б., 2021. Историја на македонскиот јазик. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите. 459 с.
- Макарова А. Л., 2016. О формах и функциях перфекта в западномакедонских диалектах // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. СПб.: Наука. Т. 12, ч. 2. С. 217–234.
- Метлова Е. Д., 2021. К проблеме выделения некоторых значений форм настоящего времени в древнейшем переводе Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского (на материале Толкового Евангелия от Иоанна) // Stephanos. № 3 (47). С. 107–114. DOI: 10.24249/2309-9917-2021-47-3-107-114
- Николаев С. И., 2020. Титульный лист русского издания «Монархии турецкой» 1741 года // Analecta Literackie i Językowe. T. 14. С. 385–391.
- Петрухина Е. В., 2009. Русский глагол: категории вида и времени (в контексте современных лингвистических исследований). М.: МАКС Пресс. 208 с.
- Скорвид С. С., 2017. Чешский язык // Языки мира. Славянские языки. СПб.: Нестор-История. С. 250–292.
- Соболев А. Н., 2000. О залоговых значениях славянских причастий на -н/-т // Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. S. 209–215.
- Соколов А. И., 2023. «Монархия турецкая» Поля Рико: роль польского перевода в работе справщиков над русской версией трактата // XXXV чтения памяти Ю. С. Сорокина и Л. Л. Кутиной: тез. Междунар. науч. конф. СПб.: ИЛИ РАН. С. 21–22.
- Супрун А. Е., 2017. Полабский язык // Языки мира. Славянские языки. СПб.: Нестор-История. С. 433–448.
- Хютль-Ворт Г., 1974. О западноевропейских элементах в русском литературном языке XVIII в. // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М.: Наука. С. 144–153.
- Načeva-Marvanová М., 2010. Perfektum v současné češtině: korpusová studie jeho gramatikalizace na bázi Českého národního korpusu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Vyd. 1. 224 s.
- Seržant I. A., 2012. The So-Called Possessive Perfect in North Russian and the Circum-Baltic Area. A Diachronic and Areal Account // Lingua. Vol. 122, № 4. Р. 356–385. DOI:10.1016/j.lingua.2011.12.003