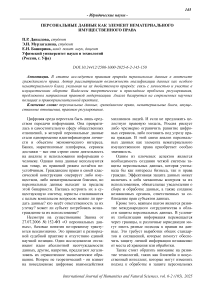Персональные данные как элемент нематериального имущественного права
Автор: Давыдова П.Р., Мурзагалина Э.И., Баширина Е.Н.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 6-2 (105), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется правовая природа персональных данных в контексте гражданского права. Автор рассматривает возможность квалификации данных как особого нематериального блага, указывая на их двойственную природу: связь с личностью и участие в имущественном обороте. Выделены теоретические и прикладные проблемы регулирования, предложены направления правовой модернизации. Анализ базируется на современных научных позициях и правоприменительной практике.
Персональные данные, гражданское право, нематериальные блага, имущественные отношения, правовое регулирование
Короткий адрес: https://sciup.org/170210637
IDR: 170210637 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-6-2-145-150
Текст научной статьи Персональные данные как элемент нематериального имущественного права
Цифровая среда перестала быть лишь средством передачи информации. Она превратилась в самостоятельную сферу общественных отношений, в которой персональные данные стали одновременно идентификатором личности и объектом экономического интереса. Банки, маркетинговые платформы, сервисы доставки – все они строят свою деятельность на анализе и использовании информации о человеке. Однако пока данные используются как товар, их правовой режим остаётся неустойчивым. Гражданское право в своей классической конструкции оперирует либо имуществом, либо нематериальными благами, но персональные данные выходят за пределы этой бинарности. Пытаясь встроить их в существующую систему, юристы сталкиваются с целым комплексом вопросов: можно ли продать данные? кто несёт ответственность за их утечку? может ли субъект потребовать вознаграждение за их использование?
Несмотря на существование Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», базовые понятия по-прежнему трактуются неоднозначно. Это приводит к разнородной судебной практике и отсутствию единой научной позиции. Одни исследователи отстаивают идею абсолютной неотчуждаемости данных, другие, напротив, предлагают легализовать их ограниченное экономическое обращение. Вопрос не теоретический - он влияет на повседневные цифровые взаимодействия миллионов людей. И если не предложить целостную правовую модель, Россия рискует либо чрезмерно ограничить развитие цифровых сервисов, либо поставить под угрозу права граждан. В этой связи анализ персональных данных как элемента нематериального имущественного права приобретает особую значимость.
Одним из ключевых аспектов является необходимость создания четкой системы защиты персональных данных, которая учитывала бы как интересы бизнеса, так и права граждан. Эффективная защита данных может включать в себя механизмы контроля за их использованием, обязательные уведомления о сборе и обработке данных, а также создание независимых органов, ответственных за соблюдение прав субъектов данных.
Кроме того, важным шагом является развитие международного сотрудничества в области защиты персональных данных. В условиях глобализации информация перемещается через границы, и различные юрисдикции могут иметь разные подходы к правам на данные. Это требует выработки общих стандартов и соглашений, которые помогут обеспечить защиту личной информации независимо от места её хранения или обработки.
Также стоит обратить внимание на развитие технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, которые могут изменить подход к обработке и защите персональных данных. Эти технологии могут обеспечить большую прозрачность и контроль над данными, что поможет создать более безопасную цифровую среду.
Идея признания персональных данных объектом правовой охраны в гражданском праве возникла далеко не сразу. В течение многих лет они воспринимались исключительно как элемент информационной безопасности или частной жизни, подлежащий защите со стороны государства. Однако за последние два десятилетия значение этих данных существенно изменилось. Стремительное развитие цифровых сервисов, социальных сетей, электронных государственных платформ создало ситуации, в которых данные о человеке стали использоваться не только в административных, но и в коммерческих целях.
Дедова С.В. подчёркивает, что гражданско-правовая охрана персональных данных начала формироваться как реакция на резкое расширение сфер их использования - от банковских приложений до онлайн-торговли [1]. Данные становятся условием доступа к товару или услуге, хотя юридически их передача часто не сопровождается полноценным договорным оформлением. Это указывает на дефицит чётких правовых рамок. В таких условиях правоприменитель оказывается вынужден оперировать разрозненными нормами, заимствуя аргументацию то из административного, то из гражданского права.
Параллельно накапливаются признаки того, что персональные данные встраиваются в систему имущественного оборота. Например, рекламные компании платят значительные суммы за доступ к массивам сегментированных данных, хотя договорная база таких сделок чаще всего юридически непрозрачна. В ряде случаев возникает необходимость признать наличие оборотоспособного интереса, вытекающего из владения массивами персональной информации. В этом смысле постепенно приходит осознание того, что данные -это не только объект защиты, но и ценный ресурс, который необходимо квалифицировать и регулировать с помощью гражданско-правовых инструментов [2].
Кроме того, стоит отметить, что изменение парадигмы восприятия персональных данных также связано с ростом осведомленности граждан о своих правах. В условиях постоян- ного мониторинга и сбора данных о пользователях через различные платформы и приложения, люди начинают осознавать важность защиты своей личной информации. Это привело к повышению требований к прозрачности обработки данных и необходимости получения согласия на их использование.
Международные инициативы, такие как Общий регламент по защите данных (GDPR), также способствовали формированию нового подхода к правовой охране персональных данных. GDPR стал стандартом для многих стран и организаций, устанавливая строгие требования к обработке и защите данных, включая право субъектов данных на доступ к своей информации и её исправление. Это подчеркивает необходимость создания гармонизированного законодательства на международном уровне.
Тем не менее, внедрение гражданско-правовых механизмов защиты персональных данных сталкивается с рядом вызовов. Во-первых, существует необходимость в разработке чётких критериев для определения того, какие именно данные могут считаться персональными и как они могут быть использованы. Во-вторых, необходимо учитывать технологические изменения и тенденции, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, которые могут затруднить идентификацию и защиту персональной информации.
Важным аспектом является также необходимость создания эффективных механизмов контроля за соблюдением прав субъектов данных. Это включает в себя создание независимых надзорных органов и внедрение механизмов для разрешения споров между субъектами данных и организациями, обрабатывающими их информацию. Эффективная правоприменительная практика должна основываться на принципах прозрачности, ответственности и уважения к правам человека.
С точки зрения теории гражданского права, персональные данные обладают признаками, сближающими их с обычными нематериальными благами. Они тесно связаны с личностью, являются неотчуждаемыми и уникальными. Их разглашение или неправомерное использование способно причинить нравственные страдания, репутационные потери и даже затронуть профессиональную реализацию человека. Это сближает их с такими объ- ектами, как имя, голос, изображение, - правовой режим которых уже устоялся в статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ).
Криволапова Л.В. подчёркивает, что персональные данные не просто отражают личность, а составляют часть её правовой сущности - в условиях цифровизации они становятся продолжением гражданской идентичности субъекта [3]. Тем не менее законодатель не называет их напрямую в перечне нематериальных благ, оставляя вопрос открытым. Это порождает правовую неопределённость: суды вынуждены каждый раз решать, относятся ли данные к частной жизни, коммерческой информации или к категории, которая вообще не имеет правового названия.
Проблему усугубляет то, что персональные данные участвуют в гражданском обороте, но без явного на то основания. Пользователь подписывает пользовательское соглашение с платформой, предоставляя информацию, которая затем обрабатывается, анализируется и используется в маркетинговых целях. При этом субъект данных часто лишён реального контроля над их дальнейшим движением. Титова К.И. обращает внимание на то, что это положение ставит данные в промежуточное состояние между личным правом и объектом правоотношений имущественного типа [2].
Размытость категориальных границ между частным и экономическим аспектами персональных данных подтверждает необходимость их признания как особого нематериального блага, охраняемого по аналогии с другими личными неимущественными правами. Однако здесь возникает вызов: как примирить неотчуждаемость и невозможность оценки в денежной форме - с реальной экономической ценностью персонализированных данных, которая уже используется бизнесом? Ответ на этот вопрос лежит, вероятно, в будущем реформировании гражданского законодательства.
Одним из наиболее острых вопросов является допустимость вовлечения персональных данных в гражданский оборот. При поверхностном взгляде может показаться, что подобная идея противоречит самой сути нематериального блага: ведь личные данные, как и имя, голос или репутация, не подлежат передаче. Однако в практике информационного обще- ства ситуация сложнее: обработка данных почти всегда осуществляется в интересах третьих лиц, чаще всего - коммерческих компаний. Это подталкивает к переосмыслению традиционной конструкции.
Чернышенко И.Г. и Баркова А.В. указывают, что персональные данные уже сегодня выполняют функции экономического актива, независимо от наличия или отсутствия у субъекта намерения их отчуждать [4]. В реальности пользователь предоставляет согласие на их обработку, а организация получает возможность строить на этом бизнес-процессы. Формально субъект остаётся владельцем данных, но в то же время лишается рычагов контроля за их судьбой. Эта асимметрия прямо влияет на гражданско-правовой статус: данные продолжают считаться неимущественным благом, но участвуют в имущественных отношениях. Это требует создания гибридной модели, в которой персональные данные одновременно являются элементом личных прав и объектом ограниченной оборотоспособности.
Однако такая ситуация порождает ряд проблем и противоречий. Во-первых, современные правовые конструкции плохо приспособлены к эффективному контролю над использованием персональных данных. Например, российские нормативные акты, такие как Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», содержат положения, направленные на обеспечение безопасности данных, однако слабо регламентируют процессы передачи и коммерческого использования информации третьими лицами. Отсутствие эффективного механизма отслеживания действий с персональными данными снижает мотивацию пользователей к защите своей приватности.
Во-вторых, существует проблема определения ценности персональных данных. Пока нет общепринятых методов расчета рыночной стоимости отдельных единиц данных, что затрудняет создание справедливой системы компенсации в случаях несанкционированного использования или потери данных. Между тем, корпоративные структуры регулярно используют большие объемы персональных данных для извлечения прибыли, создавая информационное неравенство между пользователями и компаниями.
Острикова Л.К. выделяет, что особую трудность вызывает правовая квалификация агрегированных массивов информации, сформированных на основе индивидуальных данных. Например, если маркетинговая платформа собирает поведенческие характеристики десятков тысяч пользователей, то каждый из них теряет идентифицирующее значение в массиве, но при этом остаётся источником первичной информации [5]. Здесь возникает новое явление – вторичные данные, производные от первичных, но уже не принадлежащие субъекту напрямую. Такая трансформация усиливает имущественный характер данных, что подтверждается и практикой: данные покупают, арендуют, продают и оценивают.
Разрешить эту противоречивую ситуацию возможно лишь в том случае, если персональные данные будут признаны объектом с двойной природой – нематериальным благом с ограниченной имущественной реализацией. Такая модель уже рассматривается в зарубежных юрисдикциях, особенно в странах ЕС, где действует Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), предусматривающий комплексные механизмы контроля за использованием данных, включая право на переносимость, ограничение обработки и отзыв согласия.
Если исходить из действующего российского законодательства, то персональные данные скорее приравнены к объекту публичного регулирования. Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» закрепляет требования к их сбору, хранению, обработке, но при этом не наделяет субъектов полнотой гражданско-правовых средств защиты. В частности, отсутствует возможность лицензировать доступ к данным, передавать их на возмездной основе в рамках договорных отношений, если речь не идёт о специальных соглашениях, заключаемых «под видом» пользовательских оферт.
Криволапова Л.В. подчёркивает, что такая конструкция не только отрывает правовую модель от реальности, но и подрывает доверие граждан к самим механизмам охраны их частной жизни [3]. Возможным направлением реформирования Гражданского кодекса РФ могло бы стать расширение статьи 150 с включением в неё прямого указания на персональные данные как на нематериальное благо. Это позволило бы применять к ним суще- ствующие положения о защите чести, достоинства, деловой репутации и изображения. Альтернативный путь – создание отдельного института в рамках гражданского законодательства, где были бы прописаны права и обязанности как субъектов данных, так и операторов.
Некоторые исследователи предлагают ввести механизм «цифровой лицензии» – правового инструмента, который позволял бы субъекту данных передавать строго определённый объём информации другому лицу в рамках договора, включая временные, территориальные и целевые ограничения. Такой подход не разрушает концепцию персональных данных как неотчуждаемого блага, но даёт возможность их регулируемого использования в экономической сфере [2].
Кроме того, предлагается введение института цифровых доверенностей, позволяющих третьим лицам представлять интересы субъекта данных перед операторами обработки данных, аналогично институту представительства в традиционном праве собственности. Это могло бы существенно упростить защиту прав субъектов данных и повысить эффективность судебных разбирательств.
Реформа также должна затронуть вопросы компенсации ущерба. Сегодня суды редко удовлетворяют иски о защите персональных данных на значительные суммы, хотя реальные последствия утечек могут быть катастрофическими. Как показывают дела, связанные с банковскими и медицинскими данными, ущерб может выражаться не только в утрате конфиденциальности, но и в прямом экономическом вреде – от навязанных кредитов до невозможности трудоустройства. Только чёткая гражданско-правовая конструкция, признающая ценность персональных данных и обеспечивающая их оборот, способна ответить на вызовы цифровой эпохи.
Для устранения пробелов необходимы изменения законодательства, предусматривающие компенсацию морального вреда и реального экономического ущерба в случае нарушений правил обработки данных. Такие меры могли бы включать установление минимальных сумм возмещения убытков, определение критериев оценки размера компенсации и упрощение процедуры подачи иска. Только четкая гражданско-правовая конструкция, признающая ценность персональных данных и обеспечивающая их оборот, способна ответить на вызовы цифровой эпохи.
Наконец, важно учитывать международные тенденции регулирования оборота персональных данных. Россия активно участвует в разработке глобальных стандартов кибербезопасности и международных соглашений, регулирующих обработку данных. Примером является сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейским союзом и странами БРИКС. Необходимо развивать международное законодательство таким образом, чтобы оно учитывало специфику российских реалий и защищало права российских граждан в условиях глобальной цифровизации экономики.
Рассмотрение персональных данных исключительно в рамках информационной безопасности уже не отражает сложность складывающихся цифровых отношений. Они перестали быть просто атрибутом личности и превратились в ресурс, который используется, обрабатывается и монетизируется. Однако гражданское право по-прежнему колеблется между двумя крайностями: признать данные сугубо неимущественным благом или придать им статус полноценного актива. Такая не- определённость не только усложняет правоприменение, но и снижает уровень доверия граждан к цифровым механизмам.
Проведённый анализ подтверждает, что персональные данные обладают признаками как нематериального блага, так и имущественного интереса. Их уникальность, связь с личностью и невозможность полного отчуждения указывают на необходимость специального правового режима. Однако при этом данные вовлечены в реальный экономический оборот – через платформенные соглашения, алгоритмы персонализации, рекламные кампании. Это требует гибридной модели, в которой гражданско-правовой инструментарий будет учитывать оба аспекта - и личный, и имущественный.
Без такого подхода правовая система будет продолжать отставать от технологической реальности. Включение персональных данных в перечень охраняемых нематериальных благ, закрепление механизмов лицензирования и экономической оценки, а также усиление договорной и вне договорной ответственности – шаги, которые позволят сделать систему защиты не формальной, а действенной. Иначе цифровая личность останется без прав, несмотря на свою всё возрастающую ценность.