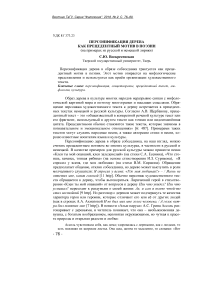Персонификация дерева как прецедентный мотив в поэзии (на примерах из русской и немецкой лирики)
Автор: Воскресенская Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования лексики и грамматики
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
Персонификация дерева в образе собеседника трактуется как прецедентный мотив в поэзии. Этот мотив опирается на мифологические представления и используется как приём организации художественного текста.
Персонификация, олицетворение, прецедентныйтекст, мифология, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/146281265
IDR: 146281265 | УДК: 81`373.23
Текст научной статьи Персонификация дерева как прецедентный мотив в поэзии (на примерах из русской и немецкой лирики)
Образ дерева в культуре многих народов неразрывно связан с мифологической картиной мира и поэтому многогранен и насыщен смыслами. Обращение персонажа художественного текста к дереву встречается в прецедентных текстах немецкой и русской культуры. Согласно А.В. Щербакову, прецедентный текст – это «общеизвестный в конкретной речевой культуре текст или его фрагмент, используемый в другом тексте как точная или видоизменённая цитата. Прецедентными обычно становятся такие тексты, которые значимы в познавательном и эмоциональном отношениях» [6: 487]. Примерами таких текстов могут служить народные песни, а также авторские стихи и песни, хорошо известные носителям языка и культуры.
Персонификацию дерева в образе собеседника, на наш взгляд, можно считать прецедентным мотивом во многих культурах, в частности в русской и немецкой. В качестве примеров для русской культуры можно привести песни «Клен ты мой опавший, клен заледенелый» (на стихи С.А. Есенина), «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина» (на основе стихотворения И.З. Сурикова), «Я спросил у ясеня, где моя любимая» (на стихи В.М. Киршона). Обращение предполагает общение, отклик собеседника, но дерево может выступить в роли молчаливого слушателя: Я спросил у ясеня: «Где моя любимая?» - / Ясень не ответил мне, качая головой [11 http]. Обычно персонаж художественного текста обращается к дереву, чтобы выговориться. Лирический герой в стихотворении «Клен ты мой опавший» от вопросов к дереву Или что увидел? Или что услышал? переходит к раздумьям о своей жизни: Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий [9 http]. Но разговор с деревом может подчеркнуть те качества характера героя или героини, которые отличают его или её от других людей (как в строках А.А. Ахматовой И не был мил мне голос человека, / А голос ветра был понятен мне [7 http]). В повести «Алые паруса» А.C. Грина Ассоль разговаривает с деревьями, и читатель понимает, что она – необыкновенная девушка, с богатым воображением, непонятая окружающими, но чуткая к красоте природы и открытая радости и любви:
Ассоль чувствовала себя, как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот ты, вот другой ты; много же вас, братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня. Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю». «Братцы» величественно гладили её чем могли – листьями – и родственно скрипели в ответ [8 http].
Психолог М.В. Осорина отмечает, что одушевление природы свойственно мышлению детей :
«По складу своего ума дети имеют естественное предрасположение к наивному язычеству во взаимоотношениях с природой и окружающим предметным миром. Они воспринимают мир вокруг как самостоятельного партнера, который может радоваться, обижаться, помогать или мстить человеку. Соответственно дети склонны к магическим действиям, чтобы расположить место или предмет, с которым они взаимодействуют, в свою пользу. Скажем, пробежать особым скоком по определённой дорожке, чтобы все сложилось удачно, поговорить с деревом, постоять на любимом камне, чтобы выразить ему свою приязнь и получить его помощь» [3: 112–113].
Анализируя воспоминания респондентов, М.В. Осорина делает ценное наблюдение: «Интересно, что это детское язычество живет в душе многих взрослых людей, вопреки обычному рационализму неожиданно просыпаясь в трудные моменты» [цит. раб.: 113]. Поэтому неудивительно, что в поэзии лирический герой нередко разговаривает с деревьями в ситуации сильного волнения, переживая горе или задумываясь над сложными вопросами. Чтобы разобраться в себе, человек обращается к миру природы, попутно одушевляя и очеловечивая его. Важно, что такое обращение требует внутреннего уединения, трудно представить себе подобный разговор при свидетелях.
В немецкой культуре обращение к дереву встречается в известных народных песнях. В песне «O Tannenbaum» обращение содержится уже в её названии. Лирический герой обращается к ели на ты и хвалит её за постоянство, так как она зеленеет и зимой, и летом: O Tannenbaum, o Tannenbaum, / Wie grün sind deine Blätter! [10 http]. В песне «Der Lindenbaum» дерево само разговаривает с человеком: Und seine Zweige rauschten, / Als riefen sie mir zu: / Komm her zu mir, Geselle, / Hier find'st du deine Ruh'! – И его ветви шелестели, будто говоря мне: иди ко мне, странник, здесь ты найдешь (душевный) покой! [12 http. Перевод мой – С.В.].
Л.И. Гришаева, выделяя особенности прецедентных текстов, говорит об эталонности их содержания при вариативности формы: «Тем самым, в ПТ (прецедентных текстах – примечание мое – С.В.) варьируется не ЧТО, а КАК; на этом свойстве ПТ основывается его способность служить для данной культуры прототипом, образцом восприятия действительности, который общеизвестен и употребителен» [1: 120]. Далеко не все тексты, содержащие персонификацию дерева, относятся к прецедентным. Предположим, что стихотворение А.А. Ахматовой «Ива» [7], несмотря на известность поэтессы, знакомо далеко не всем носителям русского языка и культуры. Необычно в нём соотнесение ивы, традиционно считающейся женским деревом (образ ивы как незамужней девушки описан в работе [4]), с мужским образом: И я молчу... как будто умер брат . Тем не менее, сам мотив общения с деревом, наделённым сознанием (ива характеризуется как благодарная ) и речью ( чужими голосами / Другие ивы что-то говорят ), является узнаваемым и часто встречается в художественных текстах.
Обращение – излюбленный приём одушевления неодушевлённого. Н.В. Рябинина и Гун Пиншо в работе, посвящённой анализу способов олицетворения дерева в русских народных песнях, отмечают: «Чаще всего в контекстах лирических песен встречаются конструкции с распространёнными обращениями, где присутствуют антропоморфные определения (эпитеты) и приложения» [4: 280].
Истоки таких персонификаций исследователи закономерно ищут в мифологических представлениях о мире, общих для многих народов: «Собственно немецкая мифологическая традиция является частью германской и германоскандинавской мифологии, которые восходят к традициям индоевропейской мифологической и мифопоэтической культуры» [5: 240]. И для немецкой, и для русской культур несомненно важен образ мирового древа: «Прямо или косвенно образ мирового древа восстанавливается для разных традиций в диапазоне от эпохи бронзы (в Европе и на Ближнем Востоке) до настоящего времени» [там же]. Мировое древо – это дерево, воплощающее устройство мира. Е.Н. Цветаева отмечает: «Мировое древо соединяет пространство и время – верх и низ, прошлое и будущее, воплощая тем самым бинарную сущность мироздания» [5: 241]. Этот образ, однако, ещё не объясняет персонификацию деревьев, особенно часто встречающуюся в волшебных сказках. А.М. Летова замечает:
«Особая роль в волшебных сказках отводится растительному миру, с которым связаны основные символические приёмы: превращение, персонификация (наделение живых существ свойствами и чертами природного мира), сакрализация образа (отнесение свойств предмета к обрядовой, ритуальной, сверхъестественной сфере)» [2: 67].
Исследуя русский фольклор, А.М. Летова приводит примеры, как «наделённые человеческими качествами (способностью говорить, советовать, думать) деревья в волшебных сказках функционируют как добрые помощники, встречающиеся на пути героя» [2: 70].
Образ дерева как партнёра в разговоре распространён в поэзии. При этом у автора есть две возможности построить текст: обращение к дереву с монологом (дерево молча выслушивает лирического героя) или диалог между персонажем и деревом. В последнем случае роль дерева активна, от его реплик зависит дальнейшее развитие разговора. Иллюстрацией такого построения текста может служить приведённое ниже стихотворение Сары Кирш (Sarah Kirsch) Bei den weissen Stiefmütterchen [13 http].
Bei den weißen Stiefmütterchen im Park wie ers mir auftrug stehe ich unter der Weide ungekämmte alte blattlos siehst du sagt sie er kommt nicht
Ach sage ich er hat sich den Fuß gebrochen eine Gräte verschluckt, eine Straße wurde plötzlich verlegt oder er kann seiner Frau nicht entkommen viele Dinge hindern uns Menschen
Die Weide wiegt sich und knarrt kann auch sein er ist schon tot sah blaß aus als er dich untern Mantel küßte kann sein Weide kann sein so wollen wir hoffen er liebt mich nicht mehr
Стихотворение разбито на строфы, но оформлено без знаков препинания, что (как и отсутствие рифм) приближает текст к потоку сознания. Основной приём построения текста – персонификация. Текст развивается как диалог лирической героини со старой ивой. Ива названа нечёсаной старухой ( ungekämmte alte ). Что интересно, дерево начинает разговор первым, констатируя неприятный для героини факт. Речь ивы начинается со слов siehst du ( видишь ). Дереву очевидно то, в чём героиня не желает признаваться сама себе: возлюбленный не желает с ней больше встречаться. Женщина пытается дереву возразить, строит догадки, одна нелепей другой. Ива перехватывает инициативу: а что, если он умер. Но вот тут и проявляется суть женской любви: пусть не любит, лишь бы был жив и здоров. Таким образом, дерево прямо вынуждает лирическую героиню понять и признать действительность, не даёт заниматься самообманом. Дерево-старуха оказывается воплощением мудрости.
Подводя итоги изложенному выше, можно констатировать, что персонификация деревьев коренится в мифологической традиции, но до сих пор активно используется как приём организации художественного текста, особенно в поэзии.
Список источников примеров
Список литературы Персонификация дерева как прецедентный мотив в поэзии (на примерах из русской и немецкой лирики)
- Гришаева Л.И. Прецедентный текст как универсальное средство передачи и хранения культурной информации//Политическая лингвистика. 2008. № 24. С. 118-123.
- Летова А.М. Особенности функционирования фитонима ‘дерево’ в русских волшебных сказках//Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». 2011. №6. С. 67-73.
- Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Питер, 2008. 304 с.
- Рябинина Н.В., Гун Пиншо. Способы олицетворения образа дерева в русских народных лирических песнях//Язык и культура: вопросы современной филологии и методики обучения языкам в вузе: материалы научно-практич. конф. (15 мая 2014 г.). Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2014. С. 279-285.
- Цветаева Е.Н. Древо мира в немецком языке и культуре//Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: «Гуманитарные науки». 2010. № 584. С. 240-246.
- Щербаков А.В. Прецедентный текст//Эффективное речевое общение (базовые компетенции). Словарь-справочник. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. С. 478-479.
- Список источников примеров
- Ахматова А.А. Ива/URL: http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=3033 (дата обращения 02.04.2018).
- Грин А.С. Алые паруса/URL: http://ilibrary.ru/text/1845/index.html (дата обращения 04.04.2018).
- Клен ты мой опавший/URL: http://a-pesni.org/drugije/klen.htm (дата обращения 04.04.2018).
- Перевод песни O Tannenbaum/URL: https://de.lyrsense.com/unheilig/o_tannenbaum_un (дата обращения 02.04.2018).
- Я спросил у ясеня/URL: http://www.pesnihi.com/i/iz_filmov/iz_filmov_ya_sprosil_u_yasenya.html (дата обращения 02.04.2018).
- Der Lindenbaum/URL: https://de.lyrsense.com/dietrich_fischerdieskau/der_lindenbaum (дата обращения 01.04.2018).
- Sarah Kirsch. Bei den wei?en Stiefmutterchen/URL: http://www.univie.ac.at/Germanistik/schrodt/grammatik/Kirsch.htm (датаобращения 30.03.2018).