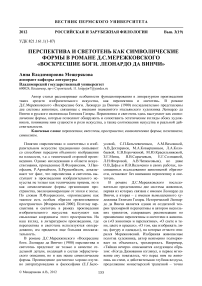Перспектива и светотень как символические формы в романе Д.С.Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи»
Автор: Мещерякова Анна Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Взаимодействие литературы и других искусств
Статья в выпуске: 3 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи рассматривает особенности функционирования в литературном произведении таких средств изобразительного искусства, как перспектива и светотень. В романе Д.С.Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1900) последовательно представлены две системы живописи, связанные с именами знаменитого итальянского художника Леонардо да Винчи и русского иконописца Евтихия Гагары. Перспектива и светотень здесь выступают как символические формы, которые позволяют обнаружить и сопоставить эстетические взгляды обоих художников, понимание ими сущности и роли искусства, а также соотношения искусства и реальной действительности.
Перспектива, светотень, пространство, символические формы, позитивизм, символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14729137
IDR: 14729137 | УДК: 821.161.1(1-87)
Текст научной статьи Перспектива и светотень как символические формы в романе Д.С.Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи»
Понятия «перспектива» и «светотень» в изобразительном искусстве традиционно связывают со способами передачи объемного изображения на плоскости, т.е. с технической стороной произведения. Однако исследования в области искусствознания, проведенные П.Флоренским, Э.Пан-офским, Р.Арнхеймом, Б.Раушенбахом, доказывают тот факт, что перспектива и светотень выступают в произведении изобразительного искусства не только как технические приемы, но и как символические формы организации пространства, эволюционирующие от эпохи к эпохе. По словам П.Флоренского, «произведение как таковое есть особым образом организованное пространство» [Флоренский 2000]. Поэтому перспектива и светотень в рамках произведения изобразительного искусства выступают как смысловые координаты этого пространства. На наш взгляд, в литературном произведении, где перспектива и светотень используются опосредованно, им придается еще большая иносказательность.
В романе Д.С.Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1900) перспектива и светотень предстают не только в качестве отдельной детали, входящей в состав экфрастиче-ского описания, но и как некие символические формы. Произведение достаточно хорошо изучено литературоведами и философами (Е.Г.Бело- пространство; символические формы; позитивизм;
усовой, С.П.Бельчевиченым, А.М.Ваховской, А.В.Дехтяренок, М.А.Ковыршиным, Л.А.Коло-баевой, Е.В.Корочкиной, М.Ю.Красильниковой, З.Г.Минц, Я.В.Сарычевым, Е.Г.Солнцевой, Л.Н.Флоровой, А.В.Чепкасовым), но даже О.В.Дефье и И.В.Вальченко в своих работах, посвященных исследованию живописной образности, оставляют без внимания перспективу и светотень.
В романе Д.С.Мережковского последовательно представлены две системы живописи, первая из которых связана с именем Леонардо да Винчи, а вторая – с именем вымышленного художника Евтихия Гагары. Исторический Леонардо да Винчи является одним из создателей теории трехмерной перспективы и автором нескольких трактатов, содержащих рекомендации по применению перспективы и светотени в живописи («О живописи и перспективе», «О свете и тени, цвете и красках», «О том, как изображать лицо, фигуру и одежды»), на которые отчасти опирался Мережковский. Изображая живописные полотна художника, автор неизменно подчеркивает их объемность, трехмерность. Например, «Тайная вечеря» описывается следующим образом: «Когда Джиованни взглянул, в первое мгновение ему показалось, что перед ним не живопись на стене, а действительная глубина воздуха, продолжение монастырской трапезной – точно
другая комната открылась за отдернутой завесою, так что продольные и поперечные балки потолка ушли в нее, суживаясь в отдалении, и свет дневной слился с тихим вечерним светом над голубыми вершинами Сиона, которые виднелись в окнах этой новой трапезной…» [Мережковский 1990: 35]. В романе приводится высказывание, которое автор приписывает да Винчи: «Наибольшую радость телу дает свет солнца; наибольшую радость духу – ясность математической истины. Вот почему науку о перспективе, в которой созерцание светлой линии – величайшая отрада глаз – соединяется с ясностью математики – величайшей отрадой ума – должно предпочитать всем остальным человеческим исследованиям и наукам» [Мережковский 1990: 97]. Согласно Д.С.Мережковскому, перспектива – это не просто гениальное изобретение, поставившее живопись на новую ступень развития, перспектива – это особое мировидение, у истоков которого стоял Леонардо (здесь и далее Леонардо да Винчи рассматривается только в качестве героя романа Д.С.Мережковского, за исключением специально оговоренных случаев).
Как видно из вышеприведенного высказывания, подобное мировидение стремится отождествить естественное визуальное восприятие и законы геометрии, которые на самом деле не тождественны (на что указывают Э.Панофский, Б.Раушенбах и В.Розин), тем самым искусство становится проводником научного видения мира. Хотя Леонардо предписывает художникам подражать природе, это не та природа, которая дана нам в непосредственном визуальном восприятии, но природа, увиденная с позиции естественных наук. Такая живопись конструирует пространство, которое должно послужить моделью, иллюстрирующей действие законов геометрии, оптики, механики, анатомии, геологии. Подобную же функцию выполняет в романе светотень. Так, передавая замысел будущей картины «Всемирный потоп», Леонардо подчеркивает: «Их [молний] должно быть больше на дальних, меньше – на ближних к зрителю волнах, как того требует закон отражения света на гладких поверхностях» [Мережковский 1990: 111]. При создании картины «Мадонна в гроте» Леонардо прежде всего заботится о соблюдении естественных законов: «Матерь Божия, среди скал, в пещере, обнимая правою рукою младенца Иоанна Крестителя, левою осеняет Сына <…> Это было создание великого художника и великого ученого вместе. Слияние тени и света, законы растительной жизни, строение человеческого тела, строение земли, механика складок, механика женских кудрей, которые вьются, как струи водоворотов, так что угол падения равен углу отражения…» [Мережковский 1990: 233]. Таким образом, перспектива и светотень в совокупности передают особое ми-ровидение, свойственное Леонардо.
Позиция Д.С.Мережковского по восприятию Леонардо да Винчи не лишена основания. Реальный Леонардо действительно был ученым и художником одновременно. Американский философ Т.Кун объясняет данный факт следующим образом: «…это были именно те эпохи, особенно период Возрождения, когда расхождение между наукой и искусством едва осознавалось. Леонардо да Винчи был только одним из тех, кто свободно переходил от науки к искусству и наоборот…» [Кун 2009]. Если в XV–XVI вв. противопоставление науки и искусства еще не сформировалось, то к концу XIX в. оно осознается и подчеркивается многими философами рубежа веков. Так, В.С.Соловьев в своем трактате «Общий смысл искусства» писал: «…в разумном познании мы находим только отражение всемирной идеи, а не действительное присутствие ее в познающем и познаваемом. Для своей настоящей реализации добро и истина должны стать творческою силою в субъекте, преобразующею, а не отражающею только действительность» [Соловьев 2001: 13]. Поэтому оппозиция наука – искусство, познание – творчество становится ключевой для построения образа Леонардо. Хотя большинство исследователей называют Леонардо художником-пророком, о котором грезили символисты, в действительности Д.С.Мереж-ковский сознательно подчеркивает рациональный характер его творчества. Согласно авторской интерпретации Леонардо в большей степени является ученым, нежели художником. Стремление навязать искусству научное видение мира, несомненно, сближает его с современными писателю позитивистами и натуралистами. Неслучайно Д.С.Мережковский в своей статье «Грядущий Хам» указывает на то, что позитивизм, первоначально зародившийся на Востоке, перекочевал в Европу в эпоху Возрождения, когда основной ценностью становится чувственный опыт [Мережковский 1992].
Параллель между творчеством Леонардо и позитивистами выстраивается не только с помощью перспективы и светотени, но и посредством других деталей. Подобно позитивистам, герой романа Д.С.Мережковского считает основным источником познания и творчества опыт, причем опыт визуальный. По словам Леонардо, «не опыт, отец всех искусств и наук, обманывает людей, а воображение, которое обещает дать им то, чего опыт дать не может» [Мережковский 1990: 111]. Именно поэтому Д.С.Мережковский отождествляет его с Фомой Неверным, «влагающим персты в язвы Господа», чтобы посредством чувственного опыта удостовериться в совершившемся чуде [Мережковский 1990: 249–250]. Подобная же роль отводится зрительному опыту в позитивизме, который породил в человеке второй половины XIX в. необычайную страсть к визуальному. Как отмечает Дж.Л.Комолли, «вторая половина XIX в. живет в своеобразной одержимости визуальным» (цит. по: [Flint 2002: 3]). Появляется множество новых течений в живописи, открываются новые галереи, выставки, музеи; возникает огромное количество иллюстрированных печатных изданий; популярностью пользуются такие оптические приборы, как микроскоп, стереоскоп, калейдоскоп, волшебный фонарь; интенсивно развивается фотография; визуальные методы широко применяются в науке.
Само обращение Леонардо с объектом изображения подобно обращению естествоиспытателя с объектом исследования. В романе мы наблюдаем за тем, как художник портретирует госпожу Лизу Джокондо. Первоначально Леонардо помещает ее под специальный навес, потолок и стены которого окрашены в черный цвет, чтобы добиться нужного освещения; а затем с помощью музыки, беседы и интересных рассказов приводит ее в определенное эмоциональное состояние. Все это напоминает эксперимент естествоиспытателя, когда объект исследования помещается в специально созданные лабораторные условия. Леонардо стремится не столько изобразить предмет и игру света на его поверхности, сколько познать его структуру и внутреннюю конструкцию. Отсюда – изучение строения человеческих мускулов и костей, создание анатомических рисунков, которые неоднократно упоминаются в романе. Вспомним Э.Золя, который в своей статье «Экспериментальный роман» пропагандировал экспериментаторский подход к объекту изображения и утверждал, что истинная цель искусства заключается в изучении «механизма явлений» [Золя 2003: 728].
Методы, предложенные Леонардо для живописи, также напоминают методы естественных наук. Так, он предлагает использовать для создания светотени метод точного измерения количества краски. Для этого он изготавливает мерную ложечку и таблицу зависимости густоты тени от количества краски. Таков же метод математического расчета идеальных пропорций человеческого лица и тела, приписываемый Д.С.Мережковским Леонардо. Но особенно интересен метод построения человеческого лица по памяти. Для этого Леонардо составляет подробную классификацию лицевых органов: носов, глаз, губ, лбов, подбородков – и обозначает их цифрами. Для того чтобы зафиксировать лицо, заинтересовавшее художника, необходимо идентифицировать каждую его часть, согласно классификации, а затем занести соответствующие цифры в таблицу. После этого человеческое лицо как бы заново конструируется из отдельных частей. Такой метод, по сути, сводит художественный образ к математической формуле. Использование научных методов в искусстве было одной из ведущих идей позитивистов. Так, Э.Золя призывал писателей использовать метод наблюдения и эксперимента, а И.Тэн стремился внедрить в искусствознание методы палеонтологии, археологии, биологии и физики.
Произведения Леонардо, согласно Д.С.Мережковскому, представляют собой то, что позитивисты называли «частица природы» [Золя 2003: 783] или «слепок с природы» [Тэн 1996: 18]. Каждое полотно Леонардо имеет под собой научную основу, о чем прямо говорит один из учеников художника Чезаре да Сеста: «…какая геометрическая правильность, какие треугольники <…> Геометрия вместо вдохновения, математика вместо красоты! Все обдумано, рассчитано, изжевано разумом до тошноты, испытано до отвращения, взвешено на весах, измерено циркулем» [Мережковский 1990: 37–38].
Вторая система живописи выражена через образ русского художника-иконописца Евтихия Гагары. Если Леонардо предстает в романе как выразитель позитивистского взгляда на искусство, то произведения Евтихия несут в себе черты новой символистской эстетики, которые проявляются прежде всего через перспективу и светотень. В своих произведениях художник применяет двухмерную перспективу и не использует светотени. Чтобы подчеркнуть контраст между полотнами обоих художников, произведения Евти-хия описываются с точки зрения Леонардо да Винчи: «Леонардо чувствовал, что это – не живопись, или, по крайней мере, не то, чем казалась ему живопись: но, вопреки несовершенству рисунка, света и тени, перспективы и анатомии – здесь, как в старых византийских мозаиках, была сила веры <…> было смутное чаяние великой, новой красоты. Действие этих образов, иногда неуклюжих, варварских, странных до дикости, и в то же время бесплотных, прозрачных и нежных, как сновидение ребенка, подобно было действию музыки. В самом нарушении законов естественных досягали они мира сверхъестественного» [Мережковский 1990: 402–403]. Как и в случае с Леонардо, перспектива и светотень характеризуют мироощущение художника. Если живопись Леонардо расширяет границы земного, видимого мира, то живопись Евтихия осуществляет прорыв в невидимый мир. Произведения Евтихия представляют собой символическую модель иного бытия. Если Леонардо пользуется трехмерной перспективой и светотенью для создания пространства, адекватного реальному, то Евтихию необходимо подчеркнуть ирреальность пространства. Отсюда использование двухмерной перспективы, которая выделяет изображенное в особый мир, изолированный от реального жизненного пространства. В данном случае Д.С.Мережковский стремится провести параллель между произведениями Евтихия и живописью рубежа веков. Использование двухмерной перспективы, тесная связь изображения с плоскостью были одной из характерных черт стиля модерн [Сарабьянов 1989: 123]. Двухмерную перспективу применяли в своих произведениях такие известные художники, как Д.Г.Россетти, Э.Берн-Джонс, А.Муха, Я.Тороп, Г.Климт, М.Врубель, М.Якунчикова. А М.Нестеров и И.Билибин помимо двухмерной перспективы использовали и другие приемы древнерусской и древневизантийской живописи.
Применение двухмерной перспективы в живописи рубежа веков было обусловлено двумя факторами. Во-первых, отказом от визуального опыта. Если позитивизм целиком опирается на зрительный опыт, то искусство рубежа XIX–XX вв. характеризуется недоверием к визуальному восприятию, которое было вызвано научными открытиями и изменениями в мировоззрении уже в первой половине XIX в. Так, А.Шопенгауэр выдвигает идею о том, что основную роль в акте восприятия играет не глаз, а мозг: «Зрение имеет преимущество перед всеми остальными чувствами в том, что оно наиболее способно к различению многочисленных незначительнейших и неуловимейших впечатлений, получаемых извне, и различных их видоизменений; однако они еще ни в коем случае не порождают восприятие, а дают только сырой, неоформленный материал для его возникновения, который только под условием действия на него рассудка превращается в восприятие и познание» [Шопенгауэр 2001: 125]. Исследования И.Мюллера, доказавшего, что одинаковые зрительные ощущения могут происходить от различных раздражителей, породили сомнения в адекватности зрительного восприятия. Открытие микромира показало, что многие природные процессы лежат за границей видимого мира. В связи с этим искусство рубежа XIX–XX вв. отворачивается от природы и обращается к более сложным и труднодоступным сферам бытия.
Живопись отходит от иконичности, т.е. связь между означающим и означаемым, образом и идеей становится условной [Даниэль 2001: 9]. Как писал В.Кандинский, «отходом от предметного и одним из первых шагов в царство абстрактного было исключение третьего измерения как из рисунка, так и из живописи» [Кандинский 2001: 110]. Художник стремится подобрать адекватную форму для выражения того, что не доступно глазу. Эта форма должна быть принципиально отличной от природных форм. Таковы произведения Евтихия Гагары. Если на полотнах Леонардо предметы и фигуры значимы сами по себе как фрагменты природы, то в произведениях Евти-хия лики святых выступают как условные знаки отвлеченных идей. Например, два изображения Иоанна Предтечи, заключающие в себе идею духовного полета, носят подчеркнуто условный характер: «…лик у обоих был странен и страшен: взор широко открытых глаз похож на взор орла, вперенный в солнце; борода и волосы развевались, как бы от сильного ветра; косматая верблюжья риза напоминала перья; кости исхудалых, непомерно длинных, тонких рук и ног, едва покрытых кожей, казались легкими, преображенными для полета, точно пустыми, полыми внутри, как хрящи и кости пернатых; за плечами два исполинские крыла были подобны крыльям лебедя…» [Мережковский 1990: 403].
Во-вторых, интерес в двухмерной перспективе связан в какой-то мере с осознанием автономности и самодостаточности сферы искусства. Неслучайно именно в этот период в России возникает художественное объединение и журнал с характерным названием «Мир искусства»; складывается концепция П.Флоренского, утверждавшего, что «произведение как таковое есть особым образом организованное пространство», которое подчиняется собственным законам, отличным от законов природы [Флоренский 2000]. В те же годы формируется учение символистов о символе как о специфическом языке искусства. Символисты, а вслед за ними В.Кандинский, провозглашают музыку наиболее совершенным искусством, поскольку она исключает всякое подражание природе [Белый 1994: 42; Кандинский 2001: 56]. Двухмерную перспективу можно также рассматривать как один из способов спецификации искусства, его обособления от реальной действительности. Неслучайно Д.С.Мережковский соотносит изображения, созданные при помощи двухмерной перспективы, с музыкой.
Таким образом, мироощущение и эстетические взгляды героев-художников не высказываются ими напрямую, но проявляются в их собственных произведениях и прочитываются благодаря перспективе и светотени, которые выступают в романе как особые символические формы. В связи с этим роман Д.С.Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (один из первых романов, написанных символистами) можно расценивать как скрытый манифест новой символистской эстетики. Кроме того, перспектива и светотень позволяют по-новому взглянуть на образ главного героя, основой которого является противоречие между наукой и искусством, познанием и творчеством. Трагедия Леонардо есть трагедия художника, не способного по-настоящему отдаться порыву вдохновения, поверить в чудо, которое заключает в себе творчество. Подлинным же художником-пророком, предтечей нового искусства оказывается Евтихий, чьи произведения несут в себе черты символистской эстетики.
Vladimir State University
Список литературы Перспектива и светотень как символические формы в романе Д.С.Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи»
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие/пер. с англ. В.Н.Самохина. М.: Прогресс, 1974. 392 с.
- Белоусова Е.Г. «Генерализующая поэтика» Д.Мережковского (Трилогия «Христос и Антихрист»): дис. канд. филол. наук. Екатеринбург, 1998. 193 с.
- Белый А. Символизм как миропонимание/сост. Л.А.Сугай. М.: Республика, 1994. 526 с.
- Бельчевичен С.П. Проблема взаимосвязи культуры и религии в философии Д.С.Мережковского. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1999. 129 с.
- Вальченко И.В. Особенности экфрасиса в произведениях Д.С.Мережковского 1890-1900-х гг. («Леонардо да Винчи», «Итальянские новеллы», «Микеланджело»). URL: http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzl/2008_1/8.html (дата обращения: 22.02.12).
- Ваховская А.М. Проза Д.С.Мережковского 1890-х -середины 1900-х гг.: Становление и художественное воплощение концепции культуры: дис. канд. филол. наук. М., 1996. 287 с.
- Винчи Леонардо. Избранные произведения: в 2 т./пер. А.А.Губера, В.К.Шилейко, А.М.Эфроса. М.: Олма-пресс, 2010. Т. 1. 476 с.
- Даниэль С. От вдохновения к рефлексии: Кандинский -теоретик искусства//Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука, 2001. С.5-22.
- Дефье О.В. Д.Мережковский: преодоление декаданса. М.: Мегатрон, 1999. 122 с
- Дехтяренок А.В. Античность и христианство в трилогии Д.С.Мережковского «Христос и Антихрист»: дис. канд. филол. наук. Петрозаводск, 2004. 294 с.
- Золя Э. Творчество. Человек-зверь. Статьи/пер. с фр. Н.Немчинова. М.: АСТ, 2003. 943 с.
- Кандинский В.В. О духовном в искусстве/пер. с нем. А.Лесовского//Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука, 2001. С.23-140.
- Ковыршин М.А. Языческая символика в художественном мире трилогии Д.С.Мережковского «Христос и Антихрист»: дис. канд. филол. наук. Елец, 2008. 196 с.
- Колобаева Л.А. Русский символизм. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 294 с.
- Королькова Е.А. Метафизика любви в творчестве Д.Мережковского и З.Гиппиус: текст лекций. СПб.: ООПГУАП, 2006. 30 с.
- Корочкина Е.В. Образы-символы и историософская концепция в трилогиях Д.С.Мережковского «Христос и Антихрист», «Царство Зверя»: дис. канд. филол. наук. Ульяновск, 2008. 203 с.
- Красильникова М.Ю. Леонардо да Винчи и его эпоха в культурфилософской рефлексии Серебряного века: дис. канд. культурол. наук. Шуя, 2008. 166 с.
- Кун Т. Структура научных революций/пер. с англ. И.З.Налетова. М.: АСТ, 2009. 310 с. URL: http://lib.rus.ec/b/141482/read#t20 (дата обращения: 03.05.2012).
- Мережковский Д.С. Воскресшие боги. Леонардо да Винчи. М.: Худож. лит., 1990. 430 с.
- Мережковский Д.С. Грядущий хам//Интеллигенция -власть -народ: Русские источники современной социальной философии (онтология)/сост. Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская. М.: Наука, 1992. С.81-104. URL: http://krotov.info/lib_sec/09_i/int/elligenzi.htm (дата обращения: 22.04.2012).
- Минц З.Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов//Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып.459. Тарту: Изд-во Тарт. ун-та, 1979. С.101-104.
- Минц З.Г. О трилогии Д.С.Мережковского «Христос и Антихрист»//Минц З.Г. Поэтика русского символизма. СПб.: Искусство-СПб, 2004. С.223-241.
- Панофский Э. Перспектива как «символическая форма»/пер. с нем. И.В.Хмелевских, Е.Ю.Козиной//Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схаластика. СПб.: Азбука-классика, 2004. С.29-208.
- Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб.: Азбука-классика, 2001. 312 с.
- Розин В.М. Визуальная культура и восприятие. М.: Кн. дом «Либроком», 2009. 272 с.
- Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. 294 с.
- Сарычев Я.В. Религия Дмитрия Мережковского. Липецк: Липец. изд-во, 2001. 221 с.
- Солнцева Е.Г. Дохристианские цивилизации в русской литературе первой трети XX в.: В.Хлебников, Д.Мережковский, О.Мандельштам: дис. канд. филол. наук. М., 2006. 253 с.
- Соловьев В.С. Общий смысл искусства//Литературные манифесты «от символизма до октября»/сост. Н.Л.Бродский, Н.П.Сидоров. М.: Аграф, 2001. С.11-23.
- Тэн И. Философия искусства/пер. с фр. А.М.Микиши. М.: Республика, 1996. 351 с.
- Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях//Флоренский П.А. Статьи и исследования по истории философии искусства и археологии. М.: Мысль, 2000. С.79-421. URL: http://philologos.narod.ru/florensky/fl_space.htm (дата обращения: 28.02.2012).
- Флорова Л.Н. Проблемы творчества Д.С.Мережковского. М.: Изд-во МКСПУ, 1996. 114 с.
- Царева Н.А. Русский символизм: основные принципы и историософия (на материале творчества Д.Мережковского, В.Брюсова и А.Блока). Владивосток: Изд-во ВГУЗС, 2005. 188 с. (нет ссылок)
- Чепкасов А.В. Неомифологизм в творчестве Д.С.Мережковского 1890-1910-х гг.: дис. канд. филол. наук. Кемерово, 1999. 225 с.
- Шопенгауэр А. Собрание сочинений: в 6 т./пер. с нем. А.Ченышева. М.: Республика, 2001. Т.3. 529 с.
- Flint K. The Victorians and the visual imagination. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 444 p.