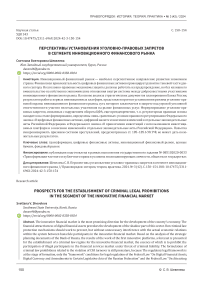Перспективы установления уголовно-правовых запретов в сегменте инновационного финансового рынка
Автор: Шевелева С.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Экономическая безопасность государства: уголовно-правовой аспект
Статья в выпуске: 3 (42), 2024 года.
Бесплатный доступ
Инновационный финансовый рынок - наиболее перспективное направление развития экономики страны. Финансовая привлекательность цифровых финансовых активов провоцирует развитие теневой части данного сектора. Но уголовно-правовые механизмы защиты должны работать на предупреждение, но без излишнего вмешательство на собственно экономические отношения внутри системы между добросовестными участниками инновационного финансового рынка. На основе анализа стратегических документов планирования Банка России, результатов работы первых инновационных платформ, представлен прогноз установления режима уголовно-правовой охраны инновационного финансового рынка, суть которого заключается в запрете под угрозой уголовной ответственности участия нелегальных участников на рынке финансовых услуг. Формулирование уголовно-правовых запретов, связанных с нарушением оборота ЦФА, еще преждевременно, т. к. регуляторная правовая основа находится на этапе формирования, определены лишь «рамочные» условия правового регулирования Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Попытка синхронизировать признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 185-185.6 УК РФ, не может дать положительных результатов.
Трансформация, цифровые финансовые активы, инновационный финансовый рынок, ценные бумаги, фондовый рынок
Короткий адрес: https://sciup.org/14131476
IDR: 14131476 | УДК: 343 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-42-3-150-154
Текст научной статьи Перспективы установления уголовно-правовых запретов в сегменте инновационного финансового рынка
Введение
Трансформационные процессы, происходящие в российском обществе (последствия пандемии, проведение специальной военной операции, и как следствие ранее неизвестные по своим масштабам экономические санкции коллективного Запада), с неизбежностью требуют от законодателя адекватных реакций. Но как можно заметить, многие социальные проблемы часто решаются уголовно-правовыми средствами. Приведем несколько примеров: «в Москве в один год были совершены убийство 2-х и ранение семи человек в ТЦ «Остров» майором милиции Д. В. Евсюковым (27 апреля 2009 г.), 26 декабря 2009 г. расстрелян водитель снегоуборочной машины подполковником милиции А. Мауриным, 10 декабря 2009 г. был задержан бывший инспектор ДПС А. Косицин, совершивший серию изнасилований и насильственных действий сексуального характера» [5, с. 339–443]. Реакция законодателя не заставила себя ждать: федеральным законом от 22.07.2010 № 155-ФЗ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, было введено совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ), которое единодушно критиковалось научным сообществом. В июне 2023 г. данный пункт утратил силу1. Как метко выразился А. В. Наумов, «у будущего историка может сложиться впечатление, что Дума была уголовно-правовой»2. Как представляется, подобный подход не может быть применим к современным технологиям в экономике, т. к. будет выступать «тормозом», а не «охраной» в формирующейся новой реальности — цифровизации [4, с. 495–499].
В то же время социально-политические и экономические изменения не могут не находить отражения в новых уголовно-правовых запретах [6, с. 2–4]. Отчетливый тренд на предупредительную функцию уголовного закона (вместо охранительной)3 не может не учитывать- ся при прогнозировании механизма уголовно-правовой охраны новых секторов экономики. В данном исследовании речь пойдет о пределах уголовно-правовой охраны инновационного финансового рынка.
Материал и методы
В качестве исходных материалов для построения научно обоснованных выводов служат документы стратегического планирования Банка России, инициированные регулятором направления развития инновационного финансового рынка, результаты работы инновационных платформ и научная литература по обозначенной проблематике [1, c. 36–37; 3, с. 76–81; 7, с. 54–57]. Следует отметить, что деление финансового рынка на традиционный и инновационный впервые было заявлено Банком России в рамках доклада для общественных консультаций «Развитие рынка цифровых активов в России» в 2022 г., где было сказано: «…рынок цифровых активов пока находится на начальном этапе развития и по объему многократно уступает рынку традиционных финансовых инструментов»4. Но тренд на развитие инновационных продуктов на финансовом рынке возник в 2016 г. на пике развития так называемых ICO5. В 2019 г. был принят федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»6. Банк России в 2020 г. ввел новый вид профессиональных участников финансового рынка — операторов информационных систем, законность деятельности которых возможна при их включении в соответствующий реестр1. В настоящее время их десять.
В качестве основного метода использован метод экстраполяции существующих механизмов уголовноправовой охраны традиционного финансового рынка и прогноз реализации существующих норм на инновационный финансовый рынок.
Результаты и обсуждение
На сегодняшний день рынок цифровых активов представляет собой 6 % от финансового рынка с традиционными финансовыми инструментами. Первые шаги в его развитии показали, что пока он идет по принципу «инвестируй в себя». Так, первый официально зарегистрированный Банком России оператор цифровых финансовых активов (далее — ЦФА) платформа «Ато-майз», занимающая почти половину инновационного рынка (45 % от всего рынка ЦФА)2, в марте 2023 г. запустила для сотрудников «Норникеля» корпоративную программу «Цифровой инвестор», где каждый участник программы получал ЦФА, minetoken, привязанные по стоимости к акциям компании3. Однако крупнейшим акционером «Норникеля» является В. Потанин. Учредителем платформы «Атомайз» является ООО «Интеррос», созданное В. Потаниным еще в 1990 г.
В июне 2022 г. был совершен самый крупный выпуск ЦФА, где эмитентом выступило РЖД, инвестором — ВТБ-факторинг на сумму 15 млрд руб. Выпуск состоялся на платформе Мастерчейн, учредителями которой являются банки ВТБ, Газпром, Промсвязьбанк, Национальная система платежных карт и Московская биржа.
Еще один сдерживающий фактор: возможность выступить в качестве инвестора ЦФА доступна только для крупного бизнеса, у которого есть свободная рублевая ликвидность, а качество заемщика дается рейтинговым агентством, оценивающим только через публичные ресурсы. По сути, бизнес может финансировать друг друга собственными средствами, минуя банковские услуги. Выгодность такого сотрудничества обеспечивается более высоким процентом относительно банковских вкладов, и менее низким процентом в соотношении с банковским кредитованием. Гарантом выступает платформа, где состоялся выпуск ЦФА. В данной цепочке контроль государства возможен (и необходим) в отношении платформы, т. к. именно она выступает гарантом сделки. В этой связи, фиксация такой платформы в реестре Банка России является обязательным.
Следовательно, уголовно-правовое противодействие должно складываться в русле уголовной наказуемости нелегальных (т. е. не внесенных в реестр) игроков. С 2022 г. Банк России ведет список компаний с выявленными признаками нелегального оператора инвестиционной платформы. И их насчитывается уже 11, т. е. больше, чем официально зарегистрированных. Но случаев привлечения к уголовной ответственности не было, т. к. специальная норма отсутствует, а «общая» — незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) не применима на практике в силу рассогласованности регулятивного и охранительного законодательства. Так, криминообразующим признаком ст. 171 УК РФ является причинение крупного ущерба гражданам, организациям, государству. Но волатильность цифровых активов превышает все допустимые значения, следовательно, предпринимательский риск здесь выше, чем с традиционными финансовыми инструментами, и рассчитать криминальный результат не представляется возможным. Сам оператор не «участвует» в цепочке своими ресурсами, а обеспечивает своевременность исполнения смарт-контракта. В перспективе формулирование нормы за незаконную деятельность операторов инвестиционных платформ следует основывать с формальной конструкцией объективной стороны.
Что касается «правил игры» внутри оборота ЦФА, здесь следует отменить несколько, на наш взгляд, важных моментов.
В настоящее время в мировой практике регулирования цифрового финансового рынка сложились три подхода: регулирование традиционных и инновационных финансовых инструментов осуществляется по одному правовому режиму; адаптация существующего нормативного регулирования под особенности цифровых технологий; введение новых специально разработанных нормативных актов [2, с. 36–37]. Банк России считает, что Россия должна пойти по третьему пути, определив отдельный объект регулирования с особым правовым статусом и не предполагающая квалификации цифровых активов в качестве цифрового представления традиционных финансовых инструментов4.
Однако этого не происходит, т. к. основная часть ЦФА имеет больше сходства с традиционными ценными бумагами, т. е. подкреплены конкретными требованиями, имеющими размер обязательства, эквивалентного драгоценным металлам, бриллиантам и т. п. Их принято именовать обеспеченными стейблкоинами. Они являются частным случаем токенизированных финансовых инструментов1 и, по оценке Банка России, имеют наибольшую распространённость2. Так, платформа «Ато-майз» в качестве конкурентного преимущества указывает, что операции с ЦФА она строит исключительно с использованием фиатных валют, т. е. в традиционной бумажной национальной валюте, т. к. по мнению платформы — это понятный и защищенный формат, и «…токсичность криптовалют не перенесена на ЦФА»3.
Сказанное может натолкнуть на мысль синхронизации уголовно-правовой охраны ЦФА, нормами, нацеленными на защиту фондового рынка от преступных посягательств (ст. 185–185.6 УК РФ), тем более, что и традиционные финансовые инструменты могут быть переведены в цифровую форму с применением технологий распределенных реестров. Однако экстраполировать признаки указанных составов преступлений на ЦФА в полном объеме не представляется возможным. В частности, для начала выпуска ЦФА должен быть выпущен инвестиционный меморандум. Данный документ не является аналогом проспекта ценных бумаг, и, следовательно, размещение ложной информации в таком меморандуме не может квалифицироваться как преступление, предусмотренное ст. 185 УК РФ. Принципиальная разница оборота ЦФА и ценных бумаг заключается в режиме разглашения информации. Для оборота ценных бумаг данный режим максимально открыт, тогда как для оборота ЦФА сопровождается предоставлением информации только участнику. Поэтому положения ст. 185.1 УК РФ в существующей редакции также не могут распространяться на ЦФА. Реализация положений ст. 185.2 УК РФ в отношении ЦФА также сложно прогнозируема уже в силу того, что сопровождение смарт-контрактов осуществляется автоматически, без участия лица, «в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги». В данном вопросе имеет место другой риск — вопрос ответственности за сбой автоматизированной системы по сопровождению смарт-контрактов. Применение положений ст. 185.3, 185.6 УК РФ применительно к ЦФА невозможно, т. к. в законодательстве об инсайдерской информации формально отсутствует указание на инновационные финансовые инструменты. Справедлива позиция А. С. Гардалоева: «Более того, манипуляции с подобными активами осуществляются чаще через Telegram-каналы, которые не скрывают целей своей деятельности и ведут ее открыто. Это связано с тем, что подобный канал можно создать анонимно, и пока регулятор и правоохранительные органы смогут среагировать, курс того или иного актива от такого воздействия изменится, и злоумышленники извлекут искомую прибыль» [2, с. 38]. Положения ст. 185.4 УК РФ адаптировать под ЦФА невозможно (да и нет необходимости), т. к. процедура осуществления прав на ЦФА отличается, и какие-либо собрания и иные организованные формы управления ЦФА не существуют. Как следствие, фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (ст. 185.5 УК РФ) быть не может.
Выводы
Вывод об адаптации признаков составов преступлений, нацеленных на уголовно-правовую охрану рынка ценных бумаг, выглядит довольно пессимистичным. Но регуляторные правила обращения ЦФА находятся на этапе формирования, т. к. в настоящее время определены только «рамочные» правила федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Пока регуляторные правила не созданы, формулировать уголовно-правовые запреты преждевременно. Своевременным видится установление уголовной ответственности за нелегальную деятельность операторов инвестиционных платформ, т. к. количество «официальных нелегалов», т. е. выявленных Банком России, уже превысило количество легальных участников.
Список литературы Перспективы установления уголовно-правовых запретов в сегменте инновационного финансового рынка
- Горбачева К. Ю. Использование инновационных технологий на финансовом рынке // Актуальные проблемы теории и практики управления: сборник научных статей XII Международной научной конференции, Смоленск, 29 ноября 2023 года. Курск: Университетская книга, 2023. С. 56-62. EDN: KXLVUQ
- Гардалоев А. С. Уголовно-правовое противодействие нелегальной деятельности на традиционном финансовом рынке: дис. … канд. юрид. наук. Курск, 2024. 240 с.
- Колмыкова Т. С., Астапенко Е. О., Грибов Р. В. Распространение инновационных сервисов и технологий как фактор роста конкуренции на финансовом рынке // Экономика и управление: проблемы, решения. 2022. Т. 2, № 1. С. 76-81. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2022.01.02.011 EDN: KMDMRA
- Шевелева С. В. Криминальные угрозы цифровой экономике // Юридическая техника. 2023. № 17. С. 495-499. EDN: DRGDBF
- Шевелева С. В. Нормализация уголовного законотворчества: об исключении п. "о" ч. 1 ст. 63 УК РФ 143 // Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции "64-е ежегодные криминалистические чтения" (Москва, 26 мая 2023 г.): в 2 ч. Ч. 2. Москва: Академия управления МВД России, 2023. С. 339-343. EDN: DLLWPH
- Шевелева С. В. Правовое регулирование социального принуждения // Социальное и пенсионное право. 2013. № 1. С. 2-4. EDN: PUWYCV
- Шевелева С. В., Гардалоев А. С. Формирование института уголовно-правовой охраны от нелегальной деятельности на финансовом рынке: к постановке проблемы // Российский следователь. 2024. № 1. С. 54-57. 10.18572/1812- 3783-2024-1-54-57. DOI: 10.18572/1812-3783-2024-1-54-57 EDN: EJDPOJ