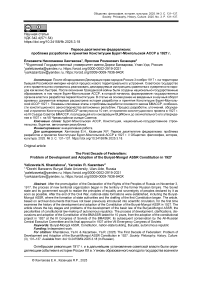Первое десятилетие федерализма: проблема разработки и принятия конституции Бурят-Монгольской АССР в 1927 г
Автор: Хантакова Е.Н., Казанцев Я.Р.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
После обнародования Декларации прав народов России 3 ноября 1917 г. на территории бывшей Российской империи начался процесс нового территориального устроения. Советское государство и его правительство стремилось реализовать декларируемые им принципы равенства и суверенности народов как можно быстрее. После окончания Гражданской войны были созданы национально-государственные образования, в том числе Бурят-Монгольская АССР, в которой начались формирование государственных органов власти и разработка первой Конституции. В статье на основе ранее не введенных в научный оборот архивных документов впервые рассмотрена история разработки и принятия Конституции Бурят-Монгольской АССР 1927 г. Показаны ключевые этапы и проблемы выработки основного закона БМАССР, особенности конституционного законотворчества автономных республик. Процесс разработки, уточнений, обсуждений и принятия Конституции БМАССР затянулся на 10 лет, от принятия конституционного проекта в 1927 г. на III Съезде Советов БМАССР, последующей его консервации ВЦИКом и до окончательного его утверждения в 1937 г. на VII Чрезвычайном съезде Советов.
Бурят-монгольская асср, конституция, национально-государственное строительство, бурятия, автономная республика
Короткий адрес: https://sciup.org/149148097
IDR: 149148097 | УДК: 342.4(571.54) | DOI: 10.24158/fik.2025.3.18
Текст научной статьи Первое десятилетие федерализма: проблема разработки и принятия конституции Бурят-Монгольской АССР в 1927 г
1,2Бурятский Государственный университет имени Доржи Банзарова, Улан-Удэ, Россия ,
,
1,2Dorzhi Banzarov Buryat State University, Ulan-Ude, Russia , ,
новые потребности в государственном, культурном, бытовом устройстве. После Гражданской войны в РСФСР необходимо было обустраивать новые территории с процессом формирования новых органов власти на окраинах страны. После обнародования Декларации прав народов России (3 ноября 1917 г.) начался процесс национально-государственного строительства1. Провозглашенные принципы равенства и суверенности народов нужно было в срочном порядке реализовывать. Начался длительный, порой хаотичный процесс автономизации народов. Карта автономных образований постоянно изменялась от начальных до более высоких форм нациестроительства. Правительству РСФСР пришлось столкнуться с главной трудностью – некомпактным расселением этносов, причем национальный фактор при определении границ не был определяющим, т. е. новые национальные территории часто совпадали с рубежами старых административно-территориальных единиц. Для реализации принципов самоопределения, согласно Декларации, в 1917 г. РСФСР благодаря настойчивости Финляндии и Польши признало их независимость, показав миру намерения строить государство по социалистическим принципам.
30 мая – 13 июня 1923 г. Президиум ВЦИК РСФСР, опираясь на сформулированную низовую инициативу руководителей бурят-монгольских областей ДВР и РСФСР, постановил создать единую Бурят-Монгольскую АССР. Первым документом, регулирующим ее правовой статус в системе выстраиваемых административно-территориальных взаимоотношений, было Положение о государственном устройстве Бурят-Монгольской Автономной Социалистической Республики2. Согласно ст. 16 Конституции РСФСР 1924 г., автономные республики в составе РСФСР получили право на разработку своих конституций. По окончании работ они представлялись на обсуждение Всесоюзному центральному исполнительному комитету3. Однако процесс утверждения конституций республик был растянутым и многоступенчатым, вследствие чего ни одна конституция не была утверждена ВЦИКом и советская власть решила «отложить» этот вопрос до выработки общих начал. Кроме того, можно трактовать это отсутствием опыта национально-государственного строительства правительства РСФСР.
Следовательно, в течение чуть менее полутора десятилетий государственно-правовой статус Бурят-Монгольской АССР определялся Конституцией РСФСР, Конституцией СССР 1936 г. и Положением о государственном устройстве БМАССР. Утвержденная центральным органом власти – ВЦИКом – Конституция республики была принята в 1937 г.
Несмотря на разработанность процесса национально-государственного строительства республики в региональной исторической литературе, проблема создания Конституции БМАССР 1927 г. изучена недостаточно. Между тем она видится актуальной в связи с непрерывным поиском оптимальных форм федеративного устройства в рамках научной дискуссии.
Целью данной статьи является попытка осветить ход разработки Конституции БМАССР 1927 г. В качестве источниковой базы использовались архивные документы Государственного архива Республики Бурятия, а конкретно фонд Р-248 «Совет Народных Комиссаров», тексты Конституции СССР и Конституции РСФСР, а также выступления партийных деятелей, которые отражены в стенограммах съезда.
Существует мнение о создании и принятии Конституции Бурят-Монгольской АССР 1927 г. по инициативе центра (Елаев, 2023: 364; Палхаева, 2014: 84). Мы согласны с данной гипотезой, так как согласно запросу в августе 1925 г. Президиума РСФСР (Отдела национальностей) к представителю Бурят-Монгольской Республики: «Отдел Национальностей ВЦИК просит, срочно сообщить, принят ли представленный Вами 10 августа с. г. за № 927 проэкт Конституции Съездом Советов Вашей Республики, если принят, то когда именно, какие затем последовали изменения этого проэкта, и приняты ли они также Съездом советов…»4 (Современное российское общество…, 2024: 206). В ответ представитель Бурят-Монгольской Республики И.В. Ченкиров в телеграмме сообщил, что запрашиваемые сведения в правительстве отсутствуют5.
Республика не торопилась с принятием собственной конституции, так как со времени ее создания все еще сохранялось сопротивление краевых и областных комитетов партии при выделении территории для БМАССР. Также сказывались отсутствие пролетарской массы в регионе, последствия Гражданской войны на Дальнем востоке, нахождение в составе ДВР (1920–1922 гг.) и относительно небольшой опыт национально-государственного строительства. В этот период у руководства Бурят-Монголии были более приоритетные цель и задачи на ближайшие годы: формирование республиканского административного и государственного аппарата на всех уровнях, налаживание хозяйственно-экономических связей между аймаками, вовлечение коренного населения в общественно-политическую жизнь и т. д.
Конституция как основной закон призвана закрепить и определить государственно-правовое устройство республики, порядок сношений с центральными парторганами. Пока не был принят основной закон, его временно заменяло Положение о государственном устройстве БМАССР и Конституция РСФСР 1918 г., согласно которым территории, отличающиеся особым бытом и национальным составом, могут объединяться в автономные областные союзы на принципах федеративных отношений и входить в состав РСФСР1.
Согласно ст. 16 Конституции РСФСР 1925 г., съезды Советов всех автономных республик России должны были принять основные законы, подлежавшие затем утверждению Всероссийским съездом Советов. В течение 1925–1930 гг. практически все существовавшие уже тогда автономные республики приняли свои конституции. Первые конституции автономных республик (Туркестанской, Дагестанской, Татарской АССР) были приняты местными учредительными съездами в 1918–1920-е гг. (Железнов, 2008: 56). Башкирская АССР, образовавшаяся в 1919 г., одной из первых приняла основной закон спустя 6 лет – в 1925 г. – V Всебашкирским съездом Советов. Якутская АССР в 1924 г. приняла Конституцию, которая состояла из основ Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. В связи с принятием в 1925 г. Конституции РСФСР Конституция Якутской АССР была изменена и принята вновь в 1926 г. Первая утвержденная центром Конституция Якутской АССР появилась лишь в 1940 г. (Максимова, 2022: 217).
Процесс конституционного строительства был запущен с момента образования республики. Так, согласно документам, нарком внутренних дел Д.М. Убугунов сообщал во ВЦИК о том, что «проект конституции БМАССР был составлен в конце 1923 г. и тогда же был представлен на утверждение ВЦИКа, но утвержден не был; таким образом не получил своего осуществления в жизнь, не проводился… он устарелый. В настоящее время НКВД озабочен вопросом по составлению нового проекта Конституции, в связи с чем перед СНК имеет быть поставлен вопрос о назначении для выработки названного проекта специальной комиссии»2. Однако к настоящему моменту ученые не выявили ни одного раннего документа, напоминающего конституционный проект.
Несмотря на неудачу первой попытки принятия конституции БМАССР, региональная партийная элита 5 октября 1925 г. сформировала новую конституционную комиссию, куда вошли «Председатель И.Ф. Головачев – управляющий делами ЦИК; Члены комиссии: В.М. Сакач – председатель Главного Суда БМАССР; Ф.И. Варганов – начальник административного управления СНК и М.Д. Эбулдин»3.
Первый вариант проекта был выработан к концу октября 1925 г., и его копии были высланы всем народным комиссариатам: «Рассмотрение проекта Комиссией назначается на 24 и 25 октября с/г. 28 октября проект вноситься на обсуждение президиума ЦИКа и СНК и 2–7 ноября – на Сессию ЦИК»4. Проект состоял из 7 разделов, 29 глав и 289 статей общим объемом 60 страниц машинописного текста.
Текст проекта был рассмотрен не только народными комиссариатами, но и прокурором и по совместительству народным комиссаром юстиции в одном лице – Г.Г. Данчиновым. В отзыве на данный законопроект он отмечал, что в его основу была положена Конституция РСФСР 1918 г., принятая на V Всероссийском съезде Советов, однако вместе с тем в основных положениях действует Конституция РСФСР 1925 г. Указывая на это явное противоречие, ГГ. Данчинов предлагает изменить некоторые статьи для устранения этих изъянов в проекте: «2) В проекте совершенно отсутствует Положение о Госплановой Комиссии, которая заменяет в Бурреспублике Экономическое Совещание РСФСР, Положение о котором включено в Конституцию РСФСР; 3) Отсутствует положение о бюджетном праве, в то время, как это право признано для Автономных республик ст. 80 Конституции РСФСР, принятой XII Всероссийским Съездом Советов…»5. Кроме этого, к проекту предусматривались постатейные правки, главным образом направленные на исправление правовых неточностей, таких как некорректные ссылки на статьи внутри проекта и тексты Конституции РСФСР 1918 г. и 1925 г., статьи проекта содержали правовые ошибки, опечатки, грамматические, пунктуационные и стилистические погрешности и т. д.
Со стороны Народных комиссариатов просвещения, земледелия, Рабоче-крестьянской инспекции по разным причинам существенных поправок, изменений и дополнений не было сделано. Только представитель Наркомата труда предложил поправки и помощь при разборе конфликтов при найме рабочей силы1.
Народный комиссариат здравоохранения в отзыве предлагал изменить статью 90, которая звучит следующим образом: «В области охраны народного здоровья на аймачный исполнительный комитет возлагается: а) принятие всех необходимых мер по предупреждению распространения заразных болезней и по организации борьбы с таковыми и пр.»2. Далее ведомство предлагало актуальные изменения: «проведение мероприятий, направленных к устранению вредных бытовых и трудовых условий», таких как организация лечебного дела в пределах аймака, «организация помощи беспризорным или впавшим в материальную нужду больным хроникам, дефективным и душевно-больным» и др.3
Следующее ведомство, приславшее предложения к проекту основного закона БМАССР, был Бурпрофсовет (Бурятский профсоюзный совет). Его представители предлагали усилить централизацию, формализацию и подотчетность членов Центрального исполнительного комитета. Командированным членам ЦИКа предлагалось предоставлять доклады в письменной форме после возвращения из поездки. Содержание во время командировок предлагалось выплачивать только членам Президиума ЦИКа, а не рядовым членам. О срочных собраниях члены ЦИКа должны были узнавать через ЦИК и публикации с указанием повестки дня, а не через «фракции» (имеются в виду ведомства)4.
К указанному числу не все наркоматы смогли предоставить свои предложения и замечания, одна часть прислала их позднее срока, другая – ответила молчанием, что трактовалось как знак согласия.
На следующем заседании по выработке проекта 25 октября 1925 г. документ Конституции БМАССР был доработан различными правками, например: «1) Во главе II ст. 10 слово “общегосударственного” заменить словом “общереспубликанского”. <…> 7) После главы VII внести в проект конституции главу VIII о главном суде БМАССР, согласно проекта, предложенного членом Комиссии Т. Сакач. 8) После главы VIII внести раздел второй о бюджетных правах Бурреспуб-лики, согласно проекта, предложенного Председателем Комиссии т. Головачевым. 9) После раздела второго дополнить конституцию разделом III – о гербе и флаге Бурреспублики»5. Таким образом, в разработке основного закона республики не все ведомства участвовали активно, не проявляя особой заинтересованности, либо отвечали отписками или молчанием.
Одними из характерных черт разработки проектов конституций автономных республик были коллективность и совещательность при решении ключевых вопросов устройства автономий. Например, 21 октября 1925 г. в ЦИК БМАССР поступило письмо от ЦИКа Татарской ССР с вложением в виде текста конституции указанной автономной республики. В нем содержалась просьба сообщить мнение по проекту, обратив особое внимание на статьи, регулирующие взаимоотношения с центральными органами власти и их полномочия, а также выслать разработанный ЦИК БМАССР проект конституции в ответ. Причиной написания письма было возбуждение ходатайства ЦИК Татарской ССР по вопросам урегулирования порядка рассмотрения ходатайств о помиловании. Количество различного рода спорных моментов стало настолько большим, что была сформирована особая комиссия в составе представителей ЦИК автономных республик во главе с заместителем секретаря ВЦИК Асфендиаровым для предварительной разработки основных положений конституций республик (Горбачев, Туманов, 2006). В письме подчеркивается следующее: «Президиум Центрального Исполнительного Комитета Татарской С.С.Р. со своей стороны считал бы необходимым уже теперь начать совместную проработку проектов Конституций, путем обмена мнениями между автономными республиками…»6.
Результатом обмена мнениями стал проект правок в положение о бюджетных правах автономных республик, чьим автором стал М.Н. Ербанов, некоторые аспекты которых ранее поднимались ЦИКом Дагестанской АССР. Из докладной записки данного законопроекта можно понять, что права, предоставленные автономным республикам, не позволяли в полном объеме решать вопросы, затрагивающие их непосредственные интересы. Присутствие лишь одного представителя АССР во ВЦИКе не давало возможности охватить весь спектр вопросов, связанных с потребностями и проблемами автономных республик. Как результат такого положения дел – нуждам республик не уделялось достаточного внимания при решении ключевых вопросов АССР.
Такая же ситуация сложилась и с бюджетными правами республик, вследствие чего «отдельные народности не могут получить достаточных средств и возможностей для своего внутреннего устроения»1. Стоит отметить, что данный проект был принят отдельным положением и вступил в силу закона в 1928 г.
М.Н. Ербанов приводит примеры, где проявляются несправедливые по отношению к отдельным народам недоработки в правовом поле на примере Бурят-Монгольской Республики: «1) По смете Статистического Управления Бурреспублики, расходы по статьям § 10, предусматривающим ассигнование на разработку материалов сельскохозяйственной переписи 1923 г., центром были исключены из нее и перенесены на бюджет СССР, из которого был открыт кредит по этому § в сумме значительно меньшей, чем требовалось на выполнение этого важного задания центра. В конечном итоге перерасход поэтому параграфу сметы в сумме 9388 руб. 16 коп. пришлось покрыть за счет неудовлетворения других нужд… 2) При распределении кооперативного фонда в центре на долю Бурреспублики досталось всего лишь 49.000 руб. из заявленных 516.603 руб.»2. Также М.Н. Ербанов говорил о недостаточности средств на школьное строительство и культурно-просветительские нужды.
М.Н. Ербанов выдвинул ряд вопросов ко ВЦИКу, касающихся бюджета автономных республик: о внесении сметных исчислений в государственный бюджет РСФСР, уравнении объединенных наркоматов республик в правах в отношении распоряжения кредитами с необъединенными наркоматами и пр. В случае положительного ответа на эти вопросы проект о бюджетных правах предлагалось рассматривать постатейно, согласно поднятым вопросам. При этом руководитель Бурят-Монгольской Республики не только указывал на несоответствие, но и предлагал решение, приложив к докладной записке проект положения об изменении бюджетных прав автономных республик в сторону расширения финансовых возможностей АССР, введении полномочных представителей от республик. В результате для БМАССР был принят отдельный закон, позволяющий гибкую финансовую политику, но на конкретный период (1925–1926 бюджетные годы). Уже в 1928 г. РСФСР унифицировал бюджетные права всех автономных республик.
На заседание комиссии по разработке основных положений конституций автономных республик 28 декабря 1925 г. от БМАССР был направлен И.В. Ченкиров – представитель республики при ВЦИК РСФСР3. Данная комиссия не приступила к работе по причине отъезда председателя, и заседание состоялось лишь в начале января 1926 г. К этому заседанию был представлен второй проект основного закона БМАССР. Целью обсуждения была выработка общих начал конституций автономных республик на базе имеющихся проектов.
Теперь проект по сравнению с предыдущим стал включать в себя больше статей и глав, преимущественно за счет положения о бюджетных правах республик. Согласно выписке из протокола № 37 заседания Президиума ВЦИК от 18 января 1926 г. была образована комиссия предварительного рассмотрения проектов конституций автономных советских социалистических республик. Председателем стал А.С. Киселев, а членами – А.С. Енукидзе, С. Асфендиаров, Я.В. Полуян, Д.И. Курский, Белобородов, В.А. Аванесов, Винокуров и Терегулов. В заседаниях решающий голос принадлежал представителю той республики, проект которой рассматривается в данный момент. К сожалению, сведений об этом заседании в Госархиве Бурятии не обнаружено и след проекта конституции теряется на целый год с 10 февраля 1926 г. по 10 февраля 1927 г. На наш взгляд, это объясняется процедурой принятия конституций, которая была многоступенчатой. Разработанный проект сначала нужно было утвердить специальной комиссии, затем согласовать с центральными органами власти и республиканскими ведомствами. Далее на съезде Советов республик необходимо было принять этот проект и представить на утверждение во ВЦИК, завершающая процедура – Всероссийский съезд Советов.
Эту мысль подтверждает письмо СНК БМАССР в Наркомюст БМАССР от 10 февраля 1926 г.: «Прошу в двухнедельный срок разработать проект конституции БМАССР и представить на рассмотрение Президиума ЦИКа. Некоторые проекты при сем прилагаются в качестве материала»4.
ВЦИК утвердил дату созыва Всебурятского съезда Советов – 15 марта 1926 г., планировалось принятие первой конституции БМАССР. В ходатайстве М.Н. Ербанов просил отсрочить III Съезд Советов на осень 1926 г. по объективным причинам, объясняя просьбу неготовностью отчета по работе правительства республики за 1924–1925 гг. и доклада по принимаемой конституции БМАССР5. Также в этом документе говорилось, что в связи с отсрочкой Всероссийского съезда Советов до конца настоящего года провести выборы делегатов на Всероссийский съезд Советов на
III Съезде Советов БМАССР более чем за полгода будет невозможно. Причинами здесь выступали обширность территории БМАССР, рассредоточенность населенных пунктов, финансовые затраты на созыв съезда в такой короткий срок, как писал М.Н. Ербанов, «бюджет Бурреспублики не выдержит». Таким образом, он ходатайствовал перед ЦИК перенести съезд на ноябрь. ЦИК удовлетворил ходатайство и перенес заседание на осень 1926 г.1 Осенью съезд снова перенесли.
Спустя ровно год в Наркомюст пришло еще одно письмо от СНК с требованием отчитаться о работе над проектом. Спустя две недели данный проект был разработан и представлен Бурятскому ЦИКу. Таким образом, срок разработки проекта Конституции БМАССР был растянут из-за переноса съезда Советов БМАССР. Проект был представлен на III Съезде Советов БМАССР только в 1927 г.
3 апреля 1927 г. на утреннем заседании III Съезда Советов И.В. Ченкиров (представитель БМАССР при ВЦИКе РСФСР) выступил с докладом по итогам разработки конституции Бурят-Монголии. В речи он подчеркнул, что «сущность конституции БМАССР состоит в следующем: в ней мы меньше включаем декларативных статей, а больше – статей, обеспечивающих строительство и автономность Бурреспублики…»2. Заслушав доклад, съезд перешел к обсуждению. И.В. Ченкиров признал, что во время разработки проекта были разногласия среди членов конституционной комиссии. Например, Д.М. Убугунов выдвинул необходимость созыва на не реже 3 раз в год по предложению 2–3 аймаков. В проекте прописано, что Бурятский ЦИК может созываться сколько угодно раз, но не реже 2 раз в год.
Из-за противоречий в комиссии председателю М.Н. Ербанову необходимо было выявить мнение большинства о сроках созыва: «По-моему мнению, “не реже 2 раз” – мало. Нужно согласиться с предложением: “не менее 3 раз в год”»3. М.Н. Ербанов подчеркнул, что не совсем корректно определять количество аймаков, по предложению которых созывается Бурятский ЦИК. В результате обсуждения и голосования съезд проголосовал: «Кто за то, чтобы сессии БурЦИКа созывать не реже 3 раз в год. Возражений нет? – Нет. Таким образом, проект конституции Съездом в основном принимается»4.
Разрешив противоречия, съезд перешел к голосованию: «Имеется резолюция по докладу в следующей редакции: “Заслушав доклад т. Ченкирова о проекте конституции Бурреспублики, III-й Съезд Советов постановляет: Представленный проект – одобрить, поручив ЦИКу окончательную его редакцию, после чего внести его на утверждение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета”. Кто за принятие резолюции? Кто против? Кто воздержался? Резолюция принята единогласно»5. Как видно из приведенного документа, проект был принят единогласно.
Таким образом, исходя из изложенного, можно говорить о проходившем в 1920-е гг. обсуждении проекта первой конституции БМАССР, в ходе которого документ подвергся значительным трансформациям. Предметом разногласий партийных лидеров стало, например, бюджетное финансирование, в контексте которого руководство республики добивалось более широких финансовых возможностей. Проект первой конституции республики, пройдя ряд сложных процедур согласования, был рассмотрен и принят на III Съезде Советов Бурят-Монгольской АССР 3 апреля 1927 г., а затем был направлен на утверждение во ВЦИК РСФСР. Процедура утверждения растянулась на десятилетие, лишая республику основного закона и ряда полномочий, что позволяет говорить о деформации принципов административно-территориального устройства в условиях провозглашенной федерации.
Список литературы Первое десятилетие федерализма: проблема разработки и принятия конституции Бурят-Монгольской АССР в 1927 г
- Горбачев И.Г., Туманов Д.Ю. Республика Татарстан: становление конституционного законодательства в 1920-1930-е гг.: историко-правовое исследование. Казань, 2006. 173 с. EDN: QXDNLX
- Елаев А.А. Республика Бурятия: 100 лет автономии и государственности: 2-е изд., перераб. и доп. Улан-Удэ, 2023. 566 с. EDN: PVMSXX
- Железнов Б.Л. Конституционно-правовые институты автономных республик в советский период // Вестник экономики, права и социологии. 2008. № 4. С. 54-67. EDN: JKGHRF
- Максимова О.Д. Сравнительно-правовой анализ особенностей конституций Якутской АССР 1924, 1926, 1937, 1978 гг. и доктринальные проблемы отечественного федерализма // Федеративное государство: историко-правовой опыт и современные практики (к 100-летию образования СССР): материалы междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т.Ф. Ящук. Омск, 2022. С. 215-219. EDN: MWEMRM
- Палхаева Е.Н. Создание Бурят-Монгольских автономных областей в составе ДВР и РСФСР как начальный этап самоопределения Бурят (1917-1922 гг.) // Государственность народов Внутренней Азии (ХХ в.) / отв. ред. К.Б.-М. Митупов. Прага, 2014. С. 41-98. EDN: VMTHUP
- Современное российское общество: новые парадигмы исследования: монография / К.А. Багаева, А.Ц. Батуева, Ю.Г. Бюраева и др.; науч. ред. Д.Ш. Цырендоржиева. Улан-Удэ, 2024. 288 с. DOI: 10.18101/978-5-9793-1963-6-2024-1-288