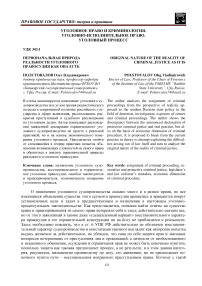Первоначальная природа реальности уголовного правосудия как она есть
Автор: Полстовалов Олег Владимирович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс
Статья в выпуске: 3 (45), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется назначение уголовного судопроизводства под углом зрения реалистического подхода к современной политике российского государства в сфере выявления, расследования, раскрытия преступлений и судебного рассмотрения по уголовным делам. Автор показывает расхождении заявленной декларации охранительного уголовного судопроизводства не просто с реальной практикой, но и на основе экономического измерения уголовного процесса. Предлагается отойти от сложившейся в теории практики попыток объяснения возникающих сложностей из самого права и обратиться к анализу первоначальной природы реальности уголовного правосудия.
Назначение уголовного судопроизводства, восстановительное и охранительное уголовное правосудие, ошибки законодателя и правоприменителя, экономическое измерение уголовного процесса
Короткий адрес: https://sciup.org/142232688
IDR: 142232688 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Первоначальная природа реальности уголовного правосудия как она есть
О назначении уголовного судопроизводства сказано много и в разное время, но все имеющиеся объяснения существа этого сегмента правосудия вращались и вращаются вокруг установленных цели и задач в предшествующем и назначения в настоящем уголовнопроцессуальном законодательстве. Как представляется, попытки найти ответы на существо права и правоприменения из самого права исчерпали себя и здесь действительно сказано все, но от этого заявленный в законе даже «удешевленный вариант» восстановительного характера правосудия в его охранительной конструкции ни на йоту не приблизился к реальности. Здесь необходимо пояснить, что в ст. 6 УПК РФ действительно не обозначен восстановительный характер судопроизводства и констатация такового выглядит как авторская попытка выдать желаемое за действительное, но убежден, что сама по себе защита прав и законных интересов потерпевших от преступления лиц и организаций, а личности от необоснованного и незаконного обвинения, осуждения и ограничения прав не может быть конечным пунктом, поскольку защита как таковая предполагает процесс, а не результат, и в этом данная категория, разумеется, имманентна производству по делу, его движению, но не предполагает конечного пункта пути – восстановления попранного преступлением права. Поэтому с такой

оговоркой будем обращаться к должному и отвечающему российской дореволюционной традиции правосудия - восстановительному его характеру - в современном охранительном, а значит удешевленном варианте.
И.Л. Петрухин с воодушевлением воспринял законодательную формулировку назначения уголовного судопроизводства как новое руководство к действию и отметил, что «на смену карательному правосудию в определённых пределах приходит правосудие восстановительное и кардинально меняет парадигму уголовного судопроизводства... » [1, с. 5]. Но, во-первых, до определенных пределов, а во-вторых, только ещё приходит на смену к тому же имевшему серьезную ретроспективу в истории страны карательному правосудию. Но можем ли мы сегодня с уверенностью говорить о том, что карательное судопроизводство - это печальная страница российской истории, а не современность? Думается, что нет. Сказанное выдающимся ученым в 2003 г. если и изменилось, то только в части возврата на старую привычную колею карательного судопроизводства, что, разумеется, никоим образом не предполагало сколько-нибудь заметного продвижения по пути всемерной защиты прав и свобод человека. Нельзя стремиться к означенной цели, двигаясь в совершенно другом направлении, если, конечно, не идешь по кругу. Иными словами: шли мы, шли к деидеологизированному охранительному судопроизводству, руководствуясь путеводной звездой восстановления попранного преступлением права, да не дошли и повернули назад, не меняя главного лозунга, но все больше превращая его в пустую идеократическую единицу недавнего прошлого демократизации. Вектор демократизации и восстановительного правосудия сменился очевидной бюрократизацией и снижением качества производства по уголовным делам, совершенно обратными тенденциями нарушения, а не защиты прав человека. Даже в расхожих суждениях, в полемике в непрофессиональной аудитории, например, в журналистской интерпретации происходящего мы стали замечать, что оборот «правоохранительные органы» все чаще заменяется далеко не синонимичным словом «силовики». Как прежде, так и теперь доминирует палочная отчетность, превалируют показатели раскрываемости, а качество правосудия измеряется количеством вступивших в законную силу, не отмененных и неизмененных приговоров. А где показатели восстановления попранных преступлением прав, где благодарные граждане, почему они не толпятся у дворцов правосудия и не поют заздравную нашей доморощенной Фемиде, стоящей одинокой статуей перед зданием Верховного Суда России без повязки на глазах и без меча, но со щитом и бессмысленным ни на что и ни на кого не направленным взглядом?
Любые косметические процедуры и приукрашивание уголовно-процессуального кодекса приводит к совершенно обратной картине: то легкая и оторванная от жизни своей воздушностью акварель охранительного и с полутонами восстановительного правосудия с помещенной в самый центр казалось бы неизменной композиционной зарисовкой либерализации, которую мы почему-то отождествляем с демократизацией, с Фемидой в классическом ее выражении, такой прекрасной, но недееспособной в стране с мрачным прошлым и настоящим, но всегда со светлым будущим, то грубый силовой реализм, низвергающий и опускающий акварель в мрачные краски действительности. В результате: то ли портрет неизвестного человека, то ли пейзаж с повешенным, то ли вообще картина с изображением эпической битвы добра со злом. Уголовное правосудие в этой картине, написанной несопоставимыми стилями и разными, но близкими в палитре и оттого все превращающими в серое красками приобретает характер в любом случае обратный тому, что хочет увидеть каждый. Реалистам не достает реализма, романтикам - тонкой душевной организации дела восстановления нарушенного права, логикам - безупречности конструкции.
Но всякий раз, увлекшись картиной, мы совершенно забываем о заказчике и первопричинах происходящего управляемого и не очень хаоса. В.А. Лазарева справедливо пишет: «Если российское правосудие используется как инструмент политической власти, оно не вызывает доверия и не имеет поддержки общества» [2, с. 541]. В стране с высокой степенью поляризации государства и общества, где монолог публичной власти не предполагает диалога 124
даже с посвященными в суть вопроса специалистами, фактически и заказчиком, и исполнителем, и контролером, и еще не Бог весть кем выступает бюрократия. А такому заказчику, собственно говоря, безразлично на основании какого с точки зрения соответствия международным стандартам или, напротив, прямой им противоположности законодательства будет осуществляться уголовное преследование, защита от него и рассмотрение дела по существу. И этому есть рациональное объяснение. Если обратить внимание на структуру преступности, то превалирование в ней в относительном выражении, но близком к абсолютному общеуголовной корыстной и корыстно-насильственной преступности задает предсказуемый вектор уголовной политики преимущественного безразличия на ближайшую и отдаленную перспективу. В 2015 г. почти половину всех зарегистрированных преступлений (46,0%) составили «хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 996,5 тыс.(+11,7%), грабежа – 71,1 тыс.(-6,7%), разбоя – 13,4 тыс. (-5,2%)» [3]. Зачем современной российской бюрократии всемерно, да еще и на уровне лучших мировых стандартов обеспечивать реализацию прав и свобод подобных подозреваемых и обвиняемых, назойливых потерпевших, а защитникам отстаивать легальные притязания неплатежеспособных клиентов, какая в том экономическая преференция и выгода? Как говорил М.С. Горбачев Р. Рейгану, намекая ему на то, что мы де, оказавшись в ситуации неспособности проводить свою внутреннюю и внешнюю политику, не продвинемся на пути сотрудничества: «Давайте будем реалистами» [4, с. 14]. Удивительно насколько в этой ситуации был более реалистичен адресат этих слов.
В этом расхождении декларируемой и скрытой политики мы напоминаем американцев, но на более раннем этапе доправового государства, а они, соответственно, в современной ситуации постмодерна, как бы это противоречиво не звучало. В рамках анализа превращения американского социального государства (Welfare State) в государство полицейское (Police State) Д.Д. Давей сконцентрировал свое внимание на расширении органов системы контроля за недовольными (!) бедными, которые по расходной части оказались более выгодным проектом в сравнении со сдерживанием вынужденной преступности реализацией проекта государства всеобщего благополучия. Таким образом, ответ на вопрос «Что дешевле: обеспечение достойного уровня жизни граждан и сокращение вынужденной преступности со стороны тех, кто находится за порогом абсолютной нищеты, их социальной поддержкой или расходы на контроль за ними и уголовное преследование нарушивших закон и судебное разбирательства по их делам?» решается не в пользу Welfare State [5, p. XXI]. Контроль как представляется работает на предупреждение, тогда как охранительная деятельность в первую очередь нацелена на реагирование по факту. Хотя цинизм американской практики не нуждается в дополнительных комментариях, но подчеркивает, что экономические смыслы практически в каждом сегменте правоприменения в любом случае являются определяющими.
Как представляется, существует много более действенное экономическое измерение уголовного судопроизводства в системе предупреждения, выявления, расследования и раскрытия преступлений, судебного производства по уголовным делам и исполнения приговора. Более того, в эпоху превалирования рационализации государственного управления над реализацией стратегического направления ограничения государства правом экономическая оценка затрат и социально полезного результата представляется наиболее актуальной задачей в той системе ценностей, которые, с одной стороны, открыто задекларированы, а с другой стороны, скрыты, но именно от этого не менее действенны. В частности, ценности экономической свободы и ограничения государственного присутствия в сфере частно-правового регулирования в демократическом обществе идут по линии границы прав и свобод человека и гражданина как общечеловеческих ценностей (преимущественно прав первого поколения) и легальных притязаний, которые не находятся на таком высоком уровне приоритета и в иерархии стоят ниже. Однако именно в российском варианте распространения неправа мы можем наблюдать применительно к уголовному судопроизводству как самоограничение государственных функций и средств их реализации происходит по принципу «рубим сук, на котором 125

сидим» без всякого обращения к анализу иерархии соотношения охраняемых правом ценностей. К примеру, в порыве «не кошмарить бизнес» вначале был регламентирован, а позднее упразднен по существу особый порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям исключительно по материалам проверок налоговых органов, вследствие чего зарегистрированных налоговых преступлений стало ровно в десять раз меньше, что означало лишь рост латентной преступности, а сама эта принятая мера выглядела как беспомощность государства в обуздании коррупции, рейдерских захватов и избыточного администрирования. В настоящее время возбуждение уголовного дела по фактам фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ) возможно исключительно на основании фактических сведений, содержащихся в направляемых Центральным банком Российской Федерации материалах (ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ). И это те же яйца, но вид с боку. «Заключение под стражу в качестве меры пресечения, – говорится в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, – не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171–174, 174.1, 176 - 178, 180–183, 185–185.4, 190–199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 части первой настоящей статьи». Сознательно приводя в пример эту норму дословно, которая одновременно является бланкетной, отсылочной и конъюнктурной, подчеркнем особую заботу законодателя о, например, привлекаемых к уголовной ответственности обвиняемых в мошенничестве с оговоркой «если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности». Подобными мерами предполагалось снизить административное давление на бизнес, не отделяя мух от котлет, т.е. не сделав главного – строгого разграничения частноправового и публичноправового регулирования, что много сложнее подобных конъюнктурных, скорых и потому сомнительных с точки зрения элементарной целесообразности решений. Возникают одновременно два риторических вопроса: подобного рода снижением давления на бизнес мы повышаем инвестиционную привлекательность и освобождаем его от никчемного от администрирования или таким путем мы пытаемся урезонить всякий раз без достаточных оснований прибегающие к избранию меры пресечения в виде заключения под стражу суды по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности? Но главный риторический вопрос видится в другом: на сколько наша экономика стала инвестиционно привлекательней для мошенников и насколько с облегчением вздохнули недобросовестные участники рынка? Вместе с тем нарушается и другое, прежде казавшееся нерушимым, правило систематизации особенной части УК РФ на основе критериальных параметров объекта преступного посягательства, когда преступления против собственности в форме мошенничества, присвоения и растраты, причинения имуще ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием уже не имеют строгой системной характеристики и могут с легкостью быть отнесены правоприменителем к тем, что совершаются в сфере предпринимательской деятельности. Отчего же законодатель ограничился полумерами, почему не пошел дальше, поскольку очевидно и тяжкие насильственные преступления также могут совершаться в предпринимательской деятельности? А если это так, то пусть выживет сильнейший!
Возвращаясь к анализу нормы об особо трепетном отношении к мошенникам-предпринимателям, представим себе вполне реальные для российской действительности две картины: 1) мошенники с целью перепродажи скупают у сельчан урожай, рассчитываясь советскими рублями, банкнотами из банка розыгрышей и пр.; 2) директор строительной организации-подрядчика банкротит аффилированного ему инвестора и, прихватив вложенные в строительство дольщиками миллионы, скрывается за границей. Вопрос о том, кто из них мошенник в области предпринимательской деятельности Верховный Суд России предлагает решать по факту, т.е. поясняет, что «при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 126
преступлений, предусмотренных статьями 159 –159.6, 160 и 165 УК РФ, суд во всех случаях должен выяснить, в какой сфере деятельности совершено преступление» [6]. Сбыт похищенного с целью извлечения прибыли в ситуации с закупкой у сельчан продукции сельхозпроиз-водства становится в подобной трактовке необходимым элементом предпринимательской деятельности и вопреки логике фактически смягчает положение расхитителя. Иными словами, предположим, что такие вот недобросовестные по отношению к сельчанам скупщики плодов их труда оказались новыми Робин-Гудами и, не преследуя цели сбыта, раздали все бедным, то и предпринимателями они, стало быть, не являются, а значит, не заслуживают никакого снисходительного отношения при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, да и квалификация деяния уже будет другая. Вместе с тем, любая деятельность, направленная на извлечение прибыли от ничтожных сделок, т.е. не соответствующих требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК) или совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК), в любом случае будет оцениваться судом не исходя из характера заключаемого псевдодоговора, а исключительно из оценки сферы деятельности, в рамках которой посягательство было совершено. Что это как не законодательное и правоприменительное послабление очевидным мошенникам? А как может быть иначе, если мошенничество – плоть от плоти именно в предпринимательской сфере зиждется на ничтожных сделках. Однако порой умысел на завладение чужим имуществом может возникнуть уже после заключения вполне себе законных сделок, например, по долевому участию в строительстве жилья. А не провоцируем ли мы даже добросовестных застройщиков к тому, что в условиях кризиса и нарастающих рисков недоведения строительства до конца легче пойти именно по пути хищения чужого имущества в расчете на столь мягкое отношение к предпринимателям законодателя и правоприменителя? Логика в условиях кризиса понятна: уж если конец один, то лучше остаться с деньгами. А если сюда добавить еще и возможность основному выгодоприобретателю по мошенничеству на том же рынке строительства жилья пойти на досудебное соглашение о сотрудничестве, сделав главными обвиняемыми по существу технических и финансовых менеджеров (главного бухгалтера, подписавшего документы заместителя директора и пр.), которые хотя и участвовали в совершении преступления, но довольствовались крохами от криминальной прибыли. В конечном итоге, под ударом уголовного преследования преимущественно может оказаться директор предприятия-застройщика, тогда как администрация накаченного средствами дольщиков обанкротившегося инвестора порой и вовсе выступает в роли стороннего наблюдателя. А может быть все и ровно наоборот, но с неизменной неполнотой расследования в устраивающем обвинение конъюнктурном варианте. И как же эта практика увязывается с защитой прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления? Ответ прост и краток: «Никак!».
В контексте сказанного пророческими выглядят слова М.М. Сперанского, который применительно к реформе уголовного судопроизводства писал как о прочих далеко не приоритетных порядках, где все перемены в образе управления «будут касаться только внешностей», и при необходимости «все виды правительства должны ограничиться следующими второстепенными, так сказать, предметами», среди которых на четвертое место он поставил сокращение обрядов судебных, «ибо в правлениях самовластных, хотя правосудие не может быть никогда справедливо, по крайней мере должно идти скоро» [7, с. 48]. В этом и видится существо происходящих уже в настоящее время реформ всех государственных услуг и тех направлений деятельности, которые таковыми являются по сути во всем цивилизованном мире, но у нас наша моральная стойкость не позволяет опуститься до подобного уничижения.
Противоречия и недостатки сущего хорошо видны в зеркале должного.
М.М. Сперанский писал: «Все, что составляет народное богатство, есть предмет экономии государственной» [7, с. 101]. Народ как источник и единственный носитель суверенитета в демократическом государстве по существу легитимацией в избирательном процессе законодательной власти и Главы государства доверяет им управление страной. Согласно концепции 127
сервисного государства народ выступает заказчиком государственных услуг, которые по вполне прозрачной логике проистекают их публичных функций и должны совершенствоваться сообразно чаяниям населения. Уголовное правосудие в экономическом измерении есть деятельность затратная и потому всякая уместная оптимизация в этом направлении при соблюдении международных стандартов правосудия, сохранения действенности основного вектора его назначения предполагает избавление от излишнего администрирования. Иными словами, одно из наиболее прогрессивных направлений модернизации всего правосудия в целом и уголовного, в частности, видится в избавлении от пустой и не имеющей под собой оснований к защите прав и свобод человека и гражданина бюрократической волокиты, документооборота ради самого документооборота. Эта идея вполне укладывается в другую тенденцию неолиберализма – обозначенную в зарубежной печати утопию минимального государства максимально возможным сокращением публичного присутствия во всех сферах жизни общества, в особенности в области частноправового регулирования. В конечном итоге, по меткому замечанию У. Бека, мечта анархичного ранка сводится к предельному уменьшению возложенных на государство задач и сокращению государственного аппарата [8, с. 12].В публичных отраслях права и правоприменения такое ограничение присутствия может происходить на основе оптимизации численности сотрудников административного аппарата в результате автоматизации труда и переведения немалой его части в электронный формат, т.е. технократической рационализации государства и его регламентированной законодательством деятельности. Иными словами, чем быстрее, эффективнее и результативнее уголовное судопроизводство с необходимым набором процедур без никчемных дополнительных и не обозначенных ни требованиями международных стандартов, ни конституционными положениями обременений, тем оно дешевле. Экономические бонусы для государства здесь внешне кажутся очевидными. Эффект от оптимизации порой может носить самый широкий характер: технически не зависимая от должностных лиц правоохранительных органов видео и аудиофиксация процедуры получения сообщения о готовящемся или совершенном правонарушении существенно бы снизили риски злоупотреблений в этом направлении, что наилучшим образом бы отвечало правам и законным интересам потерпевших. К примеру, при обращении в налоговые органы за получением от них функционально определенных государственных услуг на рабочем месте сотрудника, в поле зрения обратившегося находится надпись: «Ведется аудиозапись». И государство, которое кровно заинтересовано в вопросах налоговой дисциплины в том, чтобы воду в решете не носили, сделало все, чтобы минимизировать риски коррупции и налоговых потерь при личном контакте обратившегося и сотрудника налогового органа. Так почему с уголовным судопроизводством не так? По факту весьма затратный вариант с оборудованием места регистрации сообщений о правонарушениях звуко- и видеозаписывающим устройством не интересен власти, поскольку, во-первых, в действительности ущерб потерпевшему от правонарушения – это исключительно его финансовая проблема, а не государства (вспомним административный регламент работы налогового органа, где все ровно наоборот), а во-вторых, прозрачность процедуры вскроет такие недостатки и обернется таким валом работы, которые при нынешней бюрократии и тотальном недоверии прокуратуры по отношению к полиции и соответственно взаимообратно просто превратятся в коллапс всего досудебного производства по уголовному делу. Однако именно такие перемены позволят вскрыть всю нелицеприятную практику и истинные причины того, почему из только зарегистрированных сообщений лишь четверть становятся поводом-прологом к реальному возбуждению уголовного дела. А сколько поступающих сообщений по результатам уговоров обратившегося не регистрируются вообще и насколько практика реализации предусмотренных административным регламентом (административным в прямом смысле слова – не уголовно-процессуальным) процедур является прозрачной с точки зрения для, в первую очередь, текущего постоянного, что называется, онлайн контроля и проверок уже по факту? В ходе общественного обсуждения законопроекта «О полиции» в 2010 г. силами НКО была предложена поправка в числе прочих о запрете сотруднику препятствовать аудио- или видеозаписи при общении с гражданином. Однако она не была принята, т.е. вопрос даже не в деньгах, коль скоро государство против того, чтобы аудио- и видеофиксация свободно осуществлялась обратившимся в правоохранительные органы на свое записывающее устройство, а значит за свой счет [9, с. 11–12]. Стало быть, как ни печально это звучит, но государству эта ситуация в лучшем случае безразлична.
Вернемся к М.М. Сперанскому, который в духе дня сегодняшнего в свете принципа разделения властей, все-таки не бесспорно относил власть судную в источнике своем к исполнительной ветви, но пояснял свою мысль: «Всякое дело, всякий спор, предмет суда составляющий, есть не что другое в существе своем, как жалоба на нарушение закона. Власть судная удостоверяется в сем нарушении и восстановляет закон в его силу, то есть приводит его в исполнение» [7, с. 172].Это ли не восстановительное правосудие? А может быть это российская традиция отнесения «власти судной» по источнику своему к власти исполнительной, что объясняет легитимирующее приложения судебного разбирательства к выводам следствия и доводам обвинения уже в современной ситуации?
Как представляется, ключ проблем корениться в том, что от номенклатурного капитализма советского государства мы перешли приблизительно к тому же формату, но с существенным расширением крупного и уже частного капитала, который своей нелегитимностью стал зависим от публичной власти и именно этим ей удобен. Замкнувшись в коконе «власть – крупный капитал» правящие элиты настолько оторвались от действительности, насколько все происходящее даже в малейшей части перестало отражать либерально-демократические декларации законодательства. В конечном итоге, всему этому мы обязаны новой степенью идеократической несвободы общества. «Итак, вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч., – писал в свое время гениальный М.М. Сперанский, – я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов» [7, с. 43]. Удивительным образом современная российская бюрократия определила всем нам, ученым, максимальную степень свободы, одновременно сделав нас и нищими, и философами.
Принципиально важной для понимания существа происходящих отклонений от заявленных в законе ориентиров представляется необходимость обратиться к метафизической области экономической рациональности современного российского государства и общества, поскольку простых линейных объяснений из самого закона, законотворческого процесса и практики правоприменения становится явно недостаточно. Именно этот подход позволит более точно охарактеризовать действительное назначение уголовного судопроизводства, как и всего права, и правоприменения вообще, определиться с первопричинами происходящего и наметить пути выхода из кризиса. Какое место займет в этой сложной и противоречивой системе между должным и сущим юридическая наука – сказать сложно, поскольку политическая практика от нее все больше удаляется, а происходящие изменения в законодательстве носят все явственнее конъюнктурный и узкоутилитарный характер. Вместе с тем, рационализация общественно-исторического развития, которая все больше подменяет стратегию увенчания государства правом, – это то немногое, что остается в пределах досягаемости юридической науки, что позволяет критически относиться к отдельным нормотворческим и правоприменительным несуразностям и тем показывать действующей законодательной, исполнительной и судебной власти их ошибки.
Список литературы Первоначальная природа реальности уголовного правосудия как она есть
- Восстановительное правосудие/под общ. ред. И.Л. Петрухина. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2003.
- Лазарева В.А. Уголовный процесс как способ защиты прав и свобод человека и гражданина (назначение уголовного судопроизводства)/LEXRUSSICA. 2010. № 3. Т. LXIX. С. 540-550.
- EDN: MUKLDD
- Состояние преступности -январь-декабрь 2015 года. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском федеральном округе за январь-декабрь 2015 года/Официальный сайт МВД РФ/https:/мвд.рф/folder/101762/item/7087734/(дата обращения: 28.08.2016).
- М.С.Горбачев в Нью-Йорке, 6-8 декабря 1988 г.: документы и материалы. М.: Политиздат, 1988.
- Davey J. D. The new social contract: America's journey from welfare state to police state. Westport, Connecticut, London: Greenwood Publishing Group, Inc. First published in 1995.
- Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 24.05.2016) аб. 3. п. 7 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»/Справочно-правовая система «Гарант».
- Сперанский М.М. Проекты и записки/подг. к печ. А.И. Копанев и М.В. Кукушкина;под ред. С.Н. Валка. М. Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1961.
- Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма -ответы на глобализацию/пер. с нем. А. Григорьева и В. Сидельникова; общ. ред. и послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
- Практики общественного контроля за деятельностью полиции: методич. пособие/сост. Д. Мещеряков. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2014.