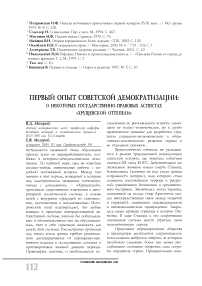Первый опыт советской демократизации: о некоторых государственно-правовых аспектах «хрущевской оттепели»
Автор: Мозеров В.Д., Мозеров Е.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Россиеведение
Статья в выпуске: 1 (5), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14720348
IDR: 14720348
Текст статьи Первый опыт советской демократизации: о некоторых государственно-правовых аспектах «хрущевской оттепели»
ПЕРВЫЙ ОПЫТ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ: О НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ»
В.Д. Мозеров, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и политического процесса, ИСИ МГУ им. Н.П.Огарева
Е.В. Мозеров, аспирант НИИ ГН при Правительстве РМ
Актуальность названной темы обусловлена прежде всего ее неразработанностью, особенно в историко-методологическом отношении. По крайней мере, нам не известны сколько-нибудь значительные работы с подобной постановкой вопроса. Между тем именно в этот период, вошедший в историю под аллегорическим названием «оттепели», иногда с дополнением — «Хрущевской», произошли существенные изменения в авторитарной политической системе, в основе своей с внутренне присущей ей статичностью, постоянством и неизменностью. Исторический опыт подтверждает, что любые новации в предельно централизованной авторитарной системе, какими бы побуждениями и обстоятельствами они ни обусловливались, таят в себе серьезную опасность для самой этой системы. Рассмотрение проблемы под таким углом зрения требует решительного дистанцирования от упрощенно-оценочного подхода к исследованию сложных и противоречивых явлений данного периода. Правомерна, наконец, и необходимость ис- следования ее регионального аспекта, имеющего не только теоретическое, но и сугубо практическое значение для разработки стратегии социально-экономического и общественно-политического развития страны и ее отдельных регионов..
Хронологически оттепель не укладывается в рамках традиционной периодизации советской истории, где этапным событием считался ХХ съезд КПСС. Действительное же эпохальное значение имела смерть Сталина, богочеловека (конечно не под углом зрения «огромности потери»), имя которого стало символом жесточайшего террора и репрессий, узаконенного беззакония и средневекового бесправия. Закончилась эпоха тирании, основанной на голоде (еще Аристотель увидел непосредственную связь между нищетой и тиранией), подавлении индивидуальности и внеэкономическом принуждении. Закрылась самая мрачная страница в истории Отечества. В лице Сталина и его осиротевших сановников система власти утратила свою железобетонную скрепу.
Предельное перенапряжение общества в предыдущие десятилетия сопровождалось колоссальным выбросом энергии, за которым неизбежно следовали более или менее расслабленное состояние общества, спад остроты ощущения страха. Принципиально важ- ным в изменившемся мире являлось и осознание властью того, что дальнейшее «существование социализма с помощью самого крайнего террора» (Ф. Ницше) невозможно. Кроме того, «оттепель» «освободила человека от перенасыщенности интеллектуальным мусором, его нагромождения вокруг культа личности. «Оттепель» подняла планку дозволенного в сфере духовной жизни общества.
Главная трудность в исследовании данной проблемы — низкое качество источников. Разнообразные по форме, они однообразны по существу, пронизаны апологетикой, официозностью, однонаправленностью — пропагандой чаще всего мнимых успехов и достижений, призванных продемонстрировать «неоспоримые» преимущества плановой социалистической экономики и советского общественного строя. Поэтому статистические данные, например, были сфальсифицированы, что отмечал даже сам Н. Хрущев. Конечно это не значит, что статистика советских времен абсолютно непригодна для исследования. Восстановить реальную картину жизни помогли бы непосредственные наблюдения современников той не столь уж отдаленной от нас поры, а также сохранившиеся материалы низового звена партийно-государственных органов, предприятий и колхозов.
Рассматриваемый период отмечен проведением целого ряда реформ, обусловленных кризисом командно-административной системы, все признаки которого к его началу были налицо. Еще с большей очевидностью они проявились в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, безоговорочно воспринявших советскую модель социализма. Финалом этого затяжного кризиса стали падение авторитарной системы, развал блока СЭВ и самого Советского Союза в начале 90-х годов. В данном сообщении нет возможности вникнуть в конкретику реформ управления сельским хозяйством (ликвидация МТС, укрупнение колхозов), где положение было особенно тяжелым, реорганизации управления промышленностью (создание Совнархозов), перестройки партийной системы по производственному принципу и других новаций хрущевской политики. Следует подчеркнуть лишь их противоречивость, непоследовательность, недостаточную продуманность и обоснованность, в какой-то мере отражавшие суетливость и сумбурный, но упрямый нрав неугомонного правителя.
Изменения официально подавались под знаком совершенствования управления различными сторонами общественно-политической и хозяйственной жизни общества. Конечно, позитивные изменения происходили, в том числе и в сфере хозяйственной (например, рост производства в промышленности Мордовии), но они не были столь уж значительны и не так уж важны. Гораздо важней то, что политика спасения системы привела эту систему к дальнейшему ослаблению, что и предопределило последующие контрреформы (после чехословацких событий 1968 г.) и вхождение страны в состояние пресловутого застоя. Оздоровление авторитарного организма власти не состоялось; зато обнажились признаки его зашлачива-ния, ярче всего проявившиеся в корпоративности, неоправданном снобизме, интеллектуальной слабости, коррумпированности высших эшелонов власти. Все это дает основание рассматривать «оттепель» как начало энергичной, необратимой эрозии советской командно-административной системы.
Что касается позитивных перемен, то они происходили не столько по замыслу, сколько вопреки воле реформаторов. Прежде всего это опасное для системы ослабление чувства страха в обществе; слабеет, становится все более размытым образ врага. Далее следует отметить облегчение налогового бремени с крестьян, жилищное строительство, пусть не столь обольстительное, но все же повышение жизненного уровня населения.
Главному донору индустриализации пришлось оказывать и неотложную помощь в виде «безвозмездного кредитования». С 1964 г. страна с самым передовым общественным строем приступила к ежегодным закупкам хлеба на империалистическом, доживающем свою последнюю стадию Западе. Импорт хлеба был самым красноречивым свидетельством неспособности сельского хозяйства прокормить население страны. Единственным, пожалуй, продуктом, в котором не испытывалось недостатка, были спирто-водочные изделия. Дефицит товаров ширпотреба стал нормой жизни. Нарастающая неспособность гиганта индустрии к удовлетворению возросших потребностей населения вызывала сомнения в обществе относительно разумности экономической политики в стране развитого социализма.
Сходной к данному моменту была ситуация и в странах так называемого социалистического содружества. Советская модель социализма демонстрировала не только мощь, но и свою слабость. Парадоксальным следствием аграрной политики являлось превращение сельского хозяйства даже по официальным нормированным ценам в убыточную отрасль. Официальная печать вынуждена была с достаточной откровенностью признать отставание социалистических стран в области научно-технического развития. СССР оказался на обочине научно-технической революции. Сохранялся редчайший консерватизм (если не сказать заскорузлость) в сфере идеологии. Громадный пропагандистский аппарат уподобился буксующему паровозу. Он надрывно, шумно работал на систему, но его эффективность оставалась слабой, если не сказать ничтожной. «Оттепель» проявила себя в удивительном многословии, прочно утвердившемся в стиле работы партаппаратчиков.
Следует подчеркнуть, что демократизация и децентрализация, подаваемые в официальных источниках со знаком тождества, не одно и то же. Фактически децентрализация означала определенное смещение авторитарности из центра в регионы, причем имело оно кратковременный характер, так как вновь в середине 1960-х гг. пришлось возвращаться к отраслевому принципу, т.е. усилить власть центра. Даже с точки зрения самого партийного руководства территориальный принцип управления себя не оправдал. Децентрализация была всего лишь бутафорией демократии, видимостью демократизации.
Короче говоря, изменения в системе власти не носили принципиального характера. Незыблемыми оставались основные признаки авторитарного режима (неприятие принципа «разделения властей», директивное планирование, однопартийность, слабые гарантии прав человека и др.). Обнаружились и такие негативные явления, внутренне присущие командно-административной системе, как субъективизм и волюнтаризм, которые с ослаблением контроля из центра усилились на региональном уровне. К этому следует добавить, что многочисленные легкомысленные импровизации (к 80-м гг. построить коммунизм, в кратчайшие сроки догнать и перегнать Америку и др.), необоснованные, непродуманные структурно-организационные перестройки партийных и государственных органов вызвали разбалансированность жестко централизованной системы власти, дестабилизировали ее, т.е. привели к результатам, противоположным первоначальному замыслу реформ.
Авторитарное начало в прожектах реформаторов проявлялось в тезисе о том, что власть надо укреплять. А укреплять ее можно было не вопреки, а по Сталину. Поэтому критика культа личности не означала полного отмежевания от Сталина. Легко проследить это на примере «дальнейшего развития» его преемниками идеи о руководящей роли партии, где наиболее полно выразилась сталинская версия демократии — оборотной стороны диктатуры пролетариата. По убеждению Ленина и Сталина, партия — «авангард», «одухотворяющая» и «направляющая сила». Кстати, соответствующая запись была включена и в текст Конституции 1936 г. Новацией идеологии тоталитарного режима в постсталинское время явилась усиленно насаждаемая в массы идея о закономерном возрастании роли партии. Поскольку партия считалась непогрешимой, всякое прикосновение к ней понималось властью как враждебное посягательство на ее собственное целомудрие, попытка превратить агнца божьего в козла отпущения. В своем конкретном проявлении возрастание роли партии выразилось в так называемом расширении общественных начал, призванных подкрепить «ощутимые» и «зримые» черты коммунизма. Инициатива во всех этих начинаниях исходила, как и полагается, от самой партии. По существу разветвленная сеть общественных организаций больше создавала иллюзию демократизации системы. На самом деле они являлись придатком, «приводными ремнями», послушными марионетками властвующей элиты. Как и прежде, человек — индивидуальность, способный по-своему видеть мир и особенно постоять за себя и свои права, — ей был не нужен и даже опасен.
Индивидуализация сознания, толчок развитию которой дали хрущевские рефор- мы, проявила себя весьма своеобразным способом. Освобождение от непосильного налогового бремени само по себе еще не создавало стимулов к активной экономической деятельности тружеников села. Мизерные надбавки в оплате труда колхозников, дотационный характер финансовой поддержки села подпитывали стремление к упрощенным способам удовлетворения потребностей. В глубинах авторитарного сознания рождалось желание иметь больше при наименьших усилиях. При ослаблении репрессивного механизма власти это желание могло быть удовлетворено посредством приобретения «нетрудовых» доходов. Множилась армия «несунов». Заметно снижалась интенсивность труда, что вызвало нехватку рабочей силы. Но, пожалуй, самым ощутимым проявлением «демократизации», перерастания государства диктатуры пролетариата в общенародное государство стало возрастание доступа бюрократии, особенно ее высшего эшелона, ко всем благам жизни. «Рыба гниет с головы», — таким образом отреагировала народная мудрость на происходящее. Мир входил в эпоху научно-технической революции, Россия — в эпоху пиров и дарения власть имущих, щедрости которых удивились бы даже вельможи екатерининских времен. На смену аскетизму шло чревоугодие — сугубо номенклатурная болезнь, не подлежащая лечению. Реалии жизни самым беспощадным образом разрушали усиленно насаждаемые сверху коллективные цели. Наказы бессмертного вечно живого вождя превращались в письма из туманного далека.
В том же русле можно рассматривать и движение за коммунистический труд (акция, широко развернутая в рассматриваемый период). Нам представляется целесообразным внести некоторые коррективы в оценку этого явления. Уместно отметить, что ленинское благословение («Великий почин») на добровольный, вдохновенный безвозмездный труд, так и осталось праздной мечтой. Сталину удалось реализовать лишь часть «великой» ленинской затеи — внедрить труд безвозмездный, оплодотворив его принуждением (при этом идеальным образом воплощенный в ГУЛАГе). В условиях господства государственной собственности пуританское отношение к труду не могло сформироваться; труд по-прежнему воспринимался в обществе скорее как испытание, нежели как настойчиво прокламируемое властью дело «чести, доблести и геройства». Поэтому лишенную здравого смысла борьбу за «коммунистический труд» приходилось все-таки подкармливать (но без перекармливания, ибо сытость не приемлет коммунизма). Значительной реальной пользы игра в коммунизм, высокомерно рассчитанная на наивную доверчивость и послушание простых людей, принести обществу, разумеется, не могла. Неудивительно, что все эти ценности и почины советской эпохи вместе с «молодостью мира» оказались на свалке истории. Образ Ленина, несущего бревно на субботнике, воспринимался молодежью не более чем забавный художественный вымысел.
Свидетельством неприятия советской модели социализма явились события 1953 г. в Польше и ГДР, венгерское народное восстание 1956 г., открывшие в этих странах дорогу для более глубоких реформ, нежели это произошло в СССР. Здесь пришлось смириться с наличием частной собственности, частной инициативы и предпринимательства, предоставив им определенные правовые гарантии. Такое сожительство не сулило дивидендов авторитарной системе.
Несостоятельность казарменного социализма вызвала к жизни диссидентское движение, внесшее огромный вклад в развенчание официального мнения о величии и непоколебимости власти. Между прочим, репрессии по отношению к инакомыслию были не единственным, а всего лишь одним из рецидивов сталинизма в процессе десталинизации.
Таким образом, в «Хрущевской оттепели» мы видим один из вариантов либерализации авторитарной политической системы, представляющей несомненно интересный исторический эксперимент, подвигший многих западных политологов и политиков к благожелательному восприятию известной в интеллектуальной среде теории конвергенции. При всей многоаспектности последствий «Хрущевской оттепели» главным являлось начало сперва пульсирующего, а затем ускоренного движения советской системы к своему трагическому финалу.