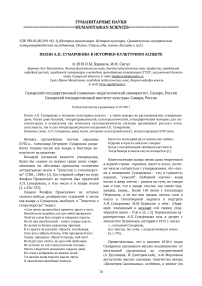Песни А.П. Сумарокова в историко-культурном аспекте
Автор: Буранок Олег Михайлович, Сигал Ирина Михайловна
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 2 (59) т.20, 2018 года.
Бесплатный доступ
Песни А.П. Сумарокова в историко-культурном аспекте - в таком ракурсе не рассматривались сумароковедами. Песни дают богатый, литературоведческий, культурологический, этнографический материал для систематизации и осмысления как комплекса культурологических взглядов крупнейшего русского поэта-классициста, так и узко литературоведческих воззрений А.П. Сумарокова.
А.п. сумароков, жанр песни, историко-культурный аспект, поэзия середины xviii века
Короткий адрес: https://sciup.org/148314277
IDR: 148314277 | УДК: 930.85:[82.091+82-1]
Текст научной статьи Песни А.П. Сумарокова в историко-культурном аспекте
Являясь крупнейшим поэтом середины XVIII в., Александр Петрович Сумароков разработал теорию песни как жанра и блестяще воплотил её на практике.
Большой натяжкой является утверждение, будто бы «одним из первых среди своих современников он обосновал принципы сочинения литературных песен в “Эпистоле о стихотворстве” (СПб., 1848)» [1]. Его старший собрат по перу Феофан Прокопович во многом был предтечей А.П. Сумарокова, в том числе и в жанре песни [2, с.336–337].
Однако Феофан Прокопович не оставил сколько-нибудь развёрнутых суждений о песне как жанре, а Сумароков, наоборот, в “Эпистоле о стихотворстве” пишет:
«Слог песен должен быть приятен, прост и ясен, Витийств не надобно; он сам собой прекрасен;
Чтоб ум в нем был сокрыт и говорила страсть;
Не он над ним большой – имеет сердце власть.
Не делай из богинь красавице примера
И в страсти не вспевай: «Прости, моя Венера, Хоть всех собрать богинь, тебя прекрасней нет». Скажи, прощаяся: «Прости теперь, мой свет!
Не будет дня, чтоб я, не зря очей любезных, Не источал из глаз своих потоков слезных.
Места, свидетели минувших сладких дней, Их станут вображать на памяти моей.
Уж начали меня терзати мысли люты, И окончалися приятные минуты.
Прости в последний раз и помни, как любил».
Кудряво в горести никто не говорил:
Когда с возлюбленной любовник расстается,
Тогда Венера в мысль ему не попадется» [1].
Квинтэссенция жанра песни дана теоретиком в первой строке: «приятен, прост и ясен», поэтому нельзя согласиться с утверждением, что «песня в понимании Сумарокова – это, в сущности, вариант, “унылой”, любовной элегии»: жанр песни и жанр элегии – разные по сути, не говоря уже о том, что в жанре «песня» так много поджанров, видов… Более 150 песен у Александра Петровича, и не все они сродни элегии, хотя и писал в стихотворной надписи к портрету А.П. Сумарокова М.М. Херасков о нём: «Парящий, пламенный и нежный сей творец (подчёркнуто нами – О.Б.)» [3, с.5]. Херасковская характеристика А.П. Сумарокова шла в разрез с лицеистом Пушкиным, который в 1815 г. писал:
«…холодный Сумароков,
Без чувства, без огня, с посредственным умом» [4, с.195].
Примечательно, что в критике 1810-х годов Сумароков оценивался весьма неоднозначно: от негативной (арзамасцы) до суперлативной (А. Грузинцев, И. Дмитревский); А.Ф. Мерзляков достаточно высоко оценивал творчество автора «Димитрия Самозванца», особенно, в лирике (он назвал Сумарокова «вдохновенным Песнопевцем», правда, о жанре песен ничего не говорится) [5, с. 401–411].
Логическим продолжением размышлений Ю.В. Стенника об оценке Сумарокова является статья Н.Ю. Алексеевой, в которой она с опорой на работы Ю.В. Стенника, Е.П. Мстиславской, В.П. Степанова даёт обстоятельный обзор высказываний, мнений, суждений о Сумарокове [6, с. 95–117]. Нарушает эту обстоятельность, пожалуй, вдруг зачем-то появившийся вывод: «Слава Сумарокова пала без особенного шума» [6, с. 98]. Н.Ю. Алексеева доводит свой обзор в статье до 1830-х годов. Он доказывает эволюцию поэта от славы к известности (обычная ситуация в отношении огромного количества творческих людей). Жизнь и творчество А.П. Сумарокова продолжало интересовать россиян на протяжении не только всего XIX века, но и позже, а «во-семнадцативечники» продолжают его изучать и по сей день [7].
Анализируя взгляд В.А. Жуковского на Сумарокова, Н.Ю. Алексеева усматривает некое «раздражение», «Жуковскому не свойственное и тем более странное, что писались они (слова – О.Б.), когда Сумароков был уже повержен» [6, с.109]. «Слава пала», «Сумароков повержен» и т.п. – всё это напоминает суды над литературными героями, авторами в 20-30-е гг. ХХ в., прямо-таки ощущается тот самый комсомольский задор, воинственность. Нам же в суждениях Жуковского о Сумарокове важно то, что в перечислении сума-роковских жанров В.А. Жуковский не забыл песню. Много позже, после В.А. Жуковского, Г.А. Гуковский, говоря о школе Сумарокова, напишет, что «он дал образцы во всех почти жанрах… начав с песен» [8, с.55].
И.Н. Розанов определил ипостась сумароков-ских элегий и песен как «личная исповедь сердца» [9, с. 108].
Освещая тему «блаженной страны» в поэзии А.П. Сумарокова, Е.Г. Июльская преувеличивает, на наш взгляд, религиозность поэта, его пророческий дар, роль апокалипсических картин [10, с. 132–134]. «Страна блаженства» у него это не только, и не столько загробный мир, вечная жизнь, бесконечная радость и т.п. «Мы золотые веки Тщимся возобновить» здесь и сейчас, утверждает коллективный лирический герой А.П. Сумарокова: «места драгие», «прекрасная сторона», «пруд в вертограде»… В песнях Сумарокова главным является мотив любви (конечно, есть и раздумья о быстротечности времени, но этот мотив подчинен любовному): «любовный рок», «любезный», «любить», «в любови», «любовь», «люблю» и т.п. В связи с этим, «блаженная страна», по Сумарокову, не рай, а любовь, близко примыкает к которой дружба:
Дружба, твои успехи
Увеселяют нас (с. 261)
А.И. Разживин (Ключёвский) весьма обстоятельно исследовал в жанрах песни и элегии лирический субъект А.П. Сумарокова. Учёный прав, что лирическую поэзию Сумарокова изучали и изучают недостаточно: «Не воспроизводят объемную картину лирической системы поэта» [11, с.12].
Н.Ю. Алексеева, А.Н. Долгенко, Л.Ф. Луцевич, В.Е. Калганова, В.В. Трубицына, С.С. Яницкая и другие исследуют репутацию поэта, психологизм его творчества, поэтику, художественное своеобразие, эстетические начала, фольклорные источники, жанровые традиции, а меж тем, «субъектную организацию лирических стихов можно обнаружить уже в лирике Сумарокова 1740-х годов, в его элегиях и песнях» [11, с. 12].
Безусловно, и Б.О. Корман, и солидарный с ним А.И. Разживин (Ключёвский) правы, что лирическое «я» и биографический автор подчас несоотносимые вещи: жанровые разновидности песен, т.е. поджанры, весьма разнообразны. Исследователь приводит примеры: «Савушка грешен…», «В рощи девки гуляли…», «Негде в маленьком лесочке…», «О ты, крепкий, крепкий Бендер-град…» [11, с.13]. У Сумарокова были предшественники, и, прежде всего, Феофан Прокопович, который одним из первых в поэзии первой трети XVIII в. формировал поэтику (и жанры) будущей русской поэзии, в том числе в таких стихотворениях, как «За Могилою Рябою», «Песня светская» и др. [2, с. 277–298]. Если А.П. Сумароков воспевает любовь-дружбу во всех их вариациях, то для Феофана Прокоповича – это некое табуированное пространство: монах-поэт строго соблюдал границы, т.к. для него плотская любовь имела сакраментальный смысл. «Системы территориальных запретов неразрывно связаны с системой табу» – эта фраза, хотя и написана применительно к проблеме происхождения языка в свете семиотики [12, с.163], адекватно отражает поэтику Феофана Прокоповича. Сумароков же своим блистательным интимным циклом дал гражданский статус жанру, узаконил его, и в этом смысле его песня стала пророческим жанром. Более 150 песен – эпоха в интимной лирике XVIII столетия: поэт сотворил то, что С.С. Аверинцев обозначил как «проникновение в запретную плотскую тайну» [13, с.90]. Границы
Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 20, №2, 2018 Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences.
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.20, no. 2, 2018
поэтической интимности раздвинуты, запреты сняты, открыты пути для целой плеяды поэтов, воспевающих любовь, дружбу: Г.Р. Державин, М.Н. Муравьев, Н.М. Карамзин и многие другие.
Эволюция песенного жанра, как и многих других, в русской литературе XVIII в. удивительна: от силлабики к силлабо-тонике; от вне субъектной лирики через лирический монолог к лирическому «Я» / «Ты»; наряду с мужским лирическим образом появляется женский; рождение нового стиля, обслуживающего песню. Песни Сумарокова – это любовный диалог, выполняющий лирическую «роль» [11, с.15]. «Летите, мои вздохи вы к той, кого люблю…», «Ввергнута тобою я в сию злу долю…», «Ты нас, любовь, прости…», «Тщетно я скрываю сердца скорби люты…», «Так из муки в муки я себя ввергаю…», «Ты сердце полонила…», «Тужит ли в той он стороне…» и др. [14, с.264, 262, 268, 270 и др.]. «Влюбленный герой и героиня предстают перед читателем явно отвлеченными, обобщенными, не конкретными образами. Мы не знаем адресатов лирических излияний, невозможно соотношение лирического «Я» с фактами биографии поэта, но при этом аналитика чувств явно близка к лирику и выражается в личных формах» [11, с.16]. «Отец Российского стихотворства» (по словам В.К. Тредиаковского) Сумароков работал в широчайшем жанровом диапазоне, в том числе песни. Уже в 40-е гг. XVIII столетия многие из сумароковских песен стали популярными, по- этому не права саратовская исследовательница Е.В. Киреева, утверждая, что «песни литературного происхождения (или литературные песни), начав проникать в песенный репертуар народа с конца XVIII века, в настоящее время составляют преобладающую часть его». Более того, песни Феофана Прокоповича и других поэтов-силлабиков первой трети XVIII в. в 10 – 30-е гг. вошли в обиход россиян, о чём существует значительная научная литература. Однако, следующее утверждение Е.В. Киреевой однозначно важное и методологически, и методически:
«Эти песни как область взаимодействия литературы и фольклора издавна привлекают внимание гуманитариев. В первую очередь, тексты этих песен исследуются специалистами в области истории и теории литературы, фольклористики. Словесная ткань их в купе с мелодией представляет интерес для музыковедов. Культурологов интересуют лубочные воспроизведения этих текстов» [15, с.76].
Песня аккумулирует в себе всё, что связано с песенной культурой, немногим поэтам удаётся стать частью этой культуры; Сумарокову это удалось ещё при жизни. Его песни вошли в состав так называемых народных песен, поэтому они исполнялись и в крестьянской среде, и в мещанской, и в купеческой, и дворянской. Удивительный талант Сумарокова-поэта и в этом жанре проявился: классицист стал классиком.
-
1. Александр Петрович Сумароков. Песни: http://russkay-literatura.ru/pesni-literatury/618-aleksandr-petrovich- sumarokov-pesni.html
-
2. См.: Буранок О.М. Феофан Прокопович и историко-литературный процесс первой половины XVIII века. М., Флинта: Наука, 2014. 444 с.
-
3. Цит. по: Берков П.Н. Жизненный и литературный путь А.П. Сумарокова // Сумароков А.П. Избранные произведения. Библиотека поэта. Большая серия. 2-ое изд. Л., "Советский писатель" 1957. С. 5.
-
4. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 17 т. М. – Л., 1937. Т. 1. С. 195.
-
5. См. подробнее: Стенник Ю.В. Сумароков в критике 1810-х годов (А.Ф. Мерзляков) // XVIII век. Сб. 21. СПб, 1999. С. 401 – 411.
-
6. См.: Алексеева Н.Ю. Репутация Сумарокова-поэта в начале XIX века // XVIII век. Сб. 26. Старое и новое в русском литературном сознании XVIII века. СПб, 2011. С. 95–117. Заметим, что в отношении В.П. Степанова исследовательница в сноске полемизирует на уровне «пушкинодомских» разборок, не относящихся к теме статьи.
-
7. См.: Александр Петрович Сумароков. Жизнь и творчество. М., Пашков дом, 2002. 304 с.
-
8. Гуковский Г.А. Ломоносов, Сумароков, школа Сумарокова // Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. М., 2001. С. 55.
-
9. Цит. по: Воронин Т.Л. История русской литературы XVIII столетия. М., Изд-во ПСТГУ, 2009. 302.
-
10. См.: Июльская Е.Г. Тема «блаженной страны» в поэзии А.П. Сумарокова и Н.М. Карамзина // Н.М. Карамзин: писатель, ученый, публицист. М., 2012. С. 132 – 134.
-
11. Разживин (Ключёвский) А.И. Лирический субъект А.П. Сумарокова: жанр песни и элегии // Михаил Муравьев и его время. Шестая Всероссийская научно-практическая с международным участием. Сб.статей. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Казань, 2017. С. 12.
-
12. См.: Славутин Е.И., Пимонов В.И. Структура сюжета. М., Наука, 2018. 172 с.
-
13. Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. М., 1972. С. 90.
-
14. См.: Сумароков А.П. Избранные произведения. Л., Советский писатель. 1957. 608 с.
-
15. Киреева Е.В. Песни литературного происхождения в вузовском изучении вопросов взаимодействия литературы и фольклора // Междисциплинарные связи при изучении литературы. Саратов, 2017. С. 76.
Ср.: Славутин Е.И., Пимонов В.И. Структура сюжета. М., Наука, 2018. 172 с. С. 89.
SONGS BY A.P. SUMAROKOV IN HISTORICAL AND CULTURAL ASPECT
Oleg M. Buranok, Doctor of Philology, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Russian, Foreign Literature and Methodology of Literature Teaching, Honoured Worker of Science in the Samara Region.
Список литературы Песни А.П. Сумарокова в историко-культурном аспекте
- Александр Петрович Сумароков. Песни: http://russkay-literatura.ru/pesni-literatury/618-aleksandr-petrovich-sumarokov-pesni.html
- См.: Буранок О.М. Феофан Прокопович и историко-литературный процесс первой половины XVIII века. М., Флинта: Наука, 2014. 444 с.
- Берков П.Н. Жизненный и литературный путь А.П. Сумарокова // Сумароков А.П. Избранные произведения. Библиотека поэта. Большая серия. 2-ое изд. Л., "Советский писатель" 1957. С. 5.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 17 т. М. - Л., 1937. Т. 1. С. 195.
- См. подробнее: Стенник Ю.В. Сумароков в критике 1810-х годов (А.Ф. Мерзляков) // XVIII век. Сб. 21. СПб, 1999. С. 401 - 411.