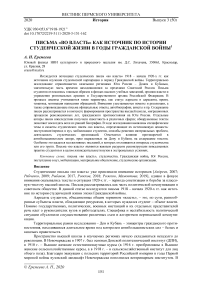Письма "во власть" как источник по истории студенческой жизни в годы гражданской войны
Автор: Еремеева А.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Письма "Во власть"
Статья в выпуске: 3 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследуется потенциал студенческих писем «во власть» 1918 - начала 1920-х гг. как источника изучения студенческой корпорации в период Гражданской войны. Территориально исследование ограничивается казачьими регионами Юга России - Доном и Кубанью, значительную часть времени находившимися за пределами Советской России. Письма студентов отложились главным образом в фондах высших учебных заведений, органов власти и управления региональных архивов и Государственного архива Российской Федерации. В процессе анализа учитываются такие параметры, как статус адресата и адресанта, время, тематика, мотивация написания обращений. Внимания удостаиваются пометы и резолюции, а также сопровождающие письма официальные ответы, автобиографии, анкеты и пр. Содержание писем рассматривается в контексте формирования пространства высшей школы, миграционных процессов революционных лет, гражданского противостояния на Юге России. Отдельные авторы писем впоследствии получили известность в различных сферах; обнаруженные тексты помогают воссоздать вехи их ранней биографии. В ходе исследования выявлены специфические темы и сюжеты студенческих писем «во власть», определяющие их источниковую ценность: поступление/перевод в вуз, мобилизации студентов, способы решения материальных проблем, деятельность студенческих организаций. Отмечается влияние противоречий в антибольшевистском лагере, ярко выраженных на Дону и Кубани, на содержание текстов. Особенно это касается коллективных посланий, в которых отстаиваются интересы студенчества или его групп. Письма «во власть» являются важным ресурсом реконструкции повседневных практик студентов и в целом жизнедеятельности вузов в экстремальных условиях.
Письма "во власть", студенчество, гражданская война, юг России, поступление в вуз, мобилизации, материальное обеспечение, студенческие организации
Короткий адрес: https://sciup.org/147246315
IDR: 147246315 | УДК: 930-053.6”1918-1921” | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-3-151-162
Текст научной статьи Письма "во власть" как источник по истории студенческой жизни в годы гражданской войны
Студенческие письма «во власть» уже привлекали внимание историков [ Андреев , 2007; Рябченко , 2009; Рыбаков . 2017, Рожков , 2018; Рожков , Мамонтова , 2019], однако в фокусе внимания оказывались тексты и ситуация 1920-х гг. – периода советизации и борьбы за классовую чистоту высшей школы. Письма рассматривались как часть политической коммуникации в советском обществе. В данной статье исследуются письма 1918 – начала 1920-х гг. как источник по истории студенческой жизни эпохи Гражданской войны.
Адресаты студентов, объединенные общим термином «власть», – это, по сути, разнообразные субъекты власти, обладающие ресурсами, в которых нуждался студент – объект власти. Помимо государственных, политических, военных инстанций и их отдельных представителей речь идет о руководителях вузов и работодателях. Специфика и нестабильность политической ситуации обусловили сосуществование различных схем и алгоритмов вертикальной коммуникации.
Территориальные рамки исследования – Дон и Кубань – эпицентры гражданского противостояния, находившиеся длительное время под контролем антибольшевистских сил – белых и казачьих правительств.
Пространство высшей школы в изучаемых регионах начало складываться незадолго до революции. В Новочеркасске в 1907 г. был основан Донской политехнический институт (ДПИ), в 1910 г. – Высшие женские естественнонаучные курсы (в 1916 г. преобразованы в Высшие женские сельскохозяйственные курсы, а в 1918 г. – в сельскохозяйственный институт для лиц обоего пола). Благодаря эвакуации с польских территорий Российской империи в годы Первой мировой войны вузовский ландшафт Новочеркасска пополнился ветеринарным институтом. В
Ростов-на-Дону осенью 1915 г. перебазировались из Варшавы университет и Высшие женские курсы. В 1916 г. в городе открылся Женский медицинский институт (ЖМИ).
Революционные события в стране сопровождались оттоком части населения из центра на окраины. Многие кубанцы и донцы - студенты столичных вузов - летом 1917 г. предпочли не возвращаться с летних каникул.
В годы Гражданской войны количественное приращение высшей школы происходило вследствие массовой миграции научной интеллигенции и студенческой молодежи из Петрограда, Москвы, других городов. В 1918-1919 гг. возникли Северо-Кавказский политехнический институт (СКПИ) и Кубанский политехнический институт (КПИ) в Екатеринодаре, коммерческий и археологический - в Ростове-на-Дону, педагогический - в Новочеркасске, консерватории - в Екатеринодаре и Ростове-на-Дону.
Письма студентов содержали следующие фонды Государственного архива Краснодарского края: Кубанский политехнический институт (Р-229), Канцелярия Совета Кубанского краевого правительства (Р-6), Ведомство земледелия Кубанского краевого правительства (Р-13), Управление особоуполномоченного Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам при ставке Главнокомандующего вооруженными силами на Юге России (Р-3), Ведомство народного просвещения Кубанского краевого правительства (Р-5). В Государственном архиве Ростовской области плодотворным оказалось обращение к фондам Донского университета (Ф.527), Ростовского-на-Дону государственного университета (Р-46), Донского политехнического института (Ф. 42), Войскового круга Всевеликого войска Донского (Ф. 861). Письма 1920-1923 гг., представляющие интерес в связи с рассмотрением заявленной темы, отложились в фонде Главного управления профессионального образования Наркомата просвещения РСФСР Государственного архива Российской Федерации (Ф. А-1565). Три письма были опубликованы в ростовской прессе.
Большинство источников впервые вводится в научный оборот. Отметим, что студенческие письма эпохи Гражданской войны практически не представлены в имеющихся документальных сборниках писем «во власть», даже относящихся к указанному периоду (Письма во власть^, 2015). И в целом студенческая жизнь «за линией фронта» пока не стала предметом специального исследования. Это актуализирует интерес к эпистолярному наследию студенчества той поры.
В выборку (87 текстов) вошли письма студентов (69) и абитуриентов (18) следующих вузов: КПИ и СКПИ, объединенных осенью 1919 г. (56), ДПИ (3), Донского университета (16), ЖМИ (5). Авторами коллективных посланий (7), персональный состав которых установить не удалось, являются студенты Донского университета (2), Студенческая общеказачья станица при Донском университете (1), Студенческое научно-трудовое общество медиков и медичек при Донском университете (2), представители объединенного студенчества КПИ и СКПИ (1), Кубанско-Черноморский объединенный студенческий комитет (1).
Абсолютное большинство выбранных посланий (79) написано в период нахождения Дона и Кубани вне советской юрисдикции, причем в 1918 г. - во время смены власти - 9, а в 1919 г. -в ситуации относительной стабильности режимов и появления новых вузов - 70. Восемь писем относятся к советскому периоду, но отражают события недавнего прошлого с целью решения актуальных для авторов задач.
В качестве адресатов выступали руководители и советы вузов или факультетов (66), атаман Всевеликого войска Донского П.Н. Краснов (2), Большой войсковой круг Всевеликого войска Донского (1), атаман Кубанского казачьего войска А.П. Филимонов (1), Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России А.И. Деникин (1), Ведомство народного просвещения Кубанского краевого правительства (1), различные учреждения, где работали или планировали работать студенты (9), Главное управление профессионального образования Наркомпроса (6). Подобная количественная диспропорция объясняется условиями гражданского противостояния, когда именно вузовское руководство воспринималось студентами как наделенная достаточными полномочиями, наиболее стабильная инстанция, призванная и способная решать их вопросы. Ходатайства за пределы региона до окончательного установления советской власти были невозможны в принципе: все «первые лица» находились в границах Дона и Кубани.
Что касается жанра писем, то большинство их представляет собою просьбы, связанные с зачислением в вуз, ликвидацией академической задолженности и т.п. При этом ходатаи вместо краткого изложения просьбы нередко на многих страницах описывали подробности биографии в военные и революционные годы, ситуацию в семье, предыдущие попытки получения образования. В приветственных письмах выражаются верноподданнические чувства, в одном из них попутно излагаются просьбы. Как доносы можно квалифицировать лишь письма в Главпро-фобр.
Полноценная интерпретация содержания писем требует обращения к материалам делопроизводства вузов и органов управления народным образованием, периодической печати. В то же время студенческие письма, воспроизводящие персональный опыт, конкретные жизненные ситуации, органично дополняют другие источники и дают возможность реконструировать разные стороны вузовской жизни, повседневные практики студентов.
Письма студентов руководству вузов хранятся главным образом в личных делах и сопровождаются документами об образовании, всевозможными справками (в том числе связанными с воинской службой), медицинскими свидетельствами, анкетами и пр. Они, как и пометы и резолюции на текстах писем, официальные ответы, помогают проследить «обратную связь» и составить представление о годах студенчества отдельных личностей.
Рассмотрим подробнее основные темы, ценные в контексте решения поставленной задачи.
Студенческий контингент, поступление в вуз, мобилизации
Студенческие письма ярко демонстрируют влияние Первой мировой и Гражданской войн на контингент студентов. Оно определялось в значительной мере демобилизованными из армии и беженцами, в том числе столичными. Многие переводились в местные вузы, вынужденно прервав обучение в Петрограде, Москве, Казани, Саратове. Подобная ситуация наблюдалась и в других отдаленных от столиц вузовских центрах [ Фоминых, Степнов, 2017, с. 165–166].
Казак Федосьевской станицы В.И. Данилевский писал ректору ДПИ 1 августа 1918 г.: « В 1915 г. я окончил Донскую духовную семинарию и в этом же году поступил в Казанский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Все возрастающая дороговизна и желание поработать на фронте вынудили меня оставить на время университет и поступить… на службу во Всероссийский земский союз… Так как в настоящее время ехать в Казань для продолжения занятий нет возможности и смысла и так как с другой стороны у меня… появилось желание получить более специальное образование, то я и решаюсь просить Вас… о переводе меня в вверенный Вам институт… Документы мои находятся в Казанском университете, удостоверение от университета в комитете Всероссийского земского союза Румынского фронта в г. Одессе: при возвращении я не смог его взять, ввиду происходящих в то время под Одессой боев между большевиками и немцами» (ГАРО. Ф. 42. Оп. 2. Д. 1174. Л. 70–70 об.).
Обратим внимание на уведомление об отсутствии документов. Оно имело место в заявлениях большинства тех, кто начинал учиться за пределами региона. «При сем прилагаю отпускной билет… так как все мои документы находятся сейчас в канцелярии вышеозначенного института», – сообщал в КПИ студент столичного Электротехнического института П.Д. Дзюба (ГАКК. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 831. Л. 151). Поступающий в этот же вуз Ф.Д. Карманский летом 1918 г. уведомлял, что ввиду занятия его родной станицы Вознесенской Красной армией и внезапного появления там разъезда Добровольческой армии он «бежал спешно без всяких вещей». Поэтому вместо документов об окончании Вознесенской гимназии предлагалось подтверждение ее директора, который в то время жил в Екатеринодаре (ГАКК. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 968. Л. 351).
Препятствием для зачисления отсутствие документов не являлось, о чем свидетельствуют положительные резолюции на прошениях. В ноябре 1918 г. Отдел народного просвещения Всевеликого войска Донского даже выпустил циркуляр для руководителей учебных заведений, где указывалось: «Прием может производиться и без истребования документов, лишь бы было представлено доказательство, что данное лицо действительно имеет право поступить в соответствующий класс (курс)» (ГАРО. Ф. 528. Оп. 1. Д. 32. Л. 21). De facto ходатаям верили практически на слово.
Источники свидетельствуют об особом статусе участников антибольшевистских формирований, позволяющем им рассчитывать на привилегии при приеме, льготное или бесплатное обучение, получение стипендий. Приведем фрагменты заявлений, поданных в преддверии начала 1918/1919 учебного года на имя ректора КПИ и атамана П.Н. Краснова:
«Ссылаясь на статью ″В Политехникум″, опубликованную в газете ″Кубанский край″ за №96, что преимущество при зачислении в слушатели (в студенты) будет лицам, бывшим в Добровольческой Армии. Поэтому прошу Вас Г[осподин] Председатель зачислить мое удостоверение о том, что я действительно был в рядах Добровольческой Армии, в 1-ой Кубанской Казачьей Дивизии в 3-ем Кубанском полку, к моему прошению… и копиями аттестата и свидетельства» (И.А. Кравченко) (ГАКК. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 968. Л. 471).
«9 июня сего года Совет Профессоров Донского Политехнического института постановил принять без экзаменов сверх комплекта лишь принявших участие в защите Родины. Ввиду этого покорнейше прошу Ваше Превосходительство разрешить мне как партизану отряда Полковника Чернецова воспользоваться предоставленной… мерой» (А.А. Пухляков) (ГАРО. Ф. 42. Оп. 2. Д. 1174. Л. 3).
Во многих заявлениях студентов-мужчин о восстановлении в вузе или переносе срока экзаменов присутствуют рассказы об армейской службе – до поступления в учебное заведение или в связи со студенческими мобилизациями 1919 г. В результате майского призыва, как сообщал Н.Н. Милованов, «были мобилизованы все студенты – годные и не годные – и они должны были занять места в строевых и нестроевых должностях, а в институте (КПИ. – Н.М .) осталось небольшое число их, имевших льготы 1-го разряда по семейному положению» (ГАКК. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 8. Л. 3).
Авторы писем указывают место нестроевой службы и занимаемую должность. «Я был направлен как военнообязанный в распоряжение Начальника Инженеров Кубанского казачьего войска, где и служил в качестве техника при Управлении отделов» (И.П. Зарубин) (ГАКК. Ф. Р-229. Оп.1. Д. 18. Л. 1); «Я был призван на военную службу и зачислен в Екатеринодарский автомобильный гараж в качестве слесаря, а затем в качестве шофера» (Н.Н. Милованов) (ГАКК. Ф. Р-229, Оп. 1. Д. 8. Л. 3); «Виду мобилизации студентов в 1919 г. я вынужден был оставить занятия в институте и поступить на службу в местный лазарет» (Г.Л. Красников) (ГАКК. Ф. Р-229. Оп.1. Д. 968. Л. 7).
Тяготы службы позволяли получить материальные послабления. Студенты электромеханического факультета КПИ И.В. Домницкий и В.М. Дмитриев, находившиеся в Добровольческой армии в мае – июне 1919 г., просили освободить их от платы за второй семестр 1918/1919 учебного года (ГАКК. Ф. Р-229. Оп.1. Д. 831. Л. 91, 161), вероятно, своевременно не внесенной. По сути, восстанавливались меры, которые практиковались в годы Первой мировой войны в отношении студентов, ушедших на фронт. В благоприятные для белых периоды военных действий именно студентов освобождали от службы до завершения образования; не случайно в личных делах имелись копии приказов о демобилизации.
После окончания Гражданской войны мобилизованные антисоветскими режимами студенты автоматически попадали в разряд «чужих». «Студенчество, кроме принятых в 1920 г., крайне реакционно, так как при белых были особые условия приема (участников походов на большевиков)», – «сигнализировал» в Главпрофобр 26 июня 1921 г. секретарь комячейки КПИ И. Маркевич (ГАРФ. Ф. А-1565. Оп. 4. Д. 184. Л. 154). В результате многие разными способами «редактировали» студенческие страницы биографии во избежание обвинений в сотрудничестве с белыми. С учетом данного обстоятельства именно студенческие письма порой являются уникальным источником для воссоздания жизненного пути их авторов.
Об этом свидетельствует, в частности, история П.П. Лукьяненко (1901–1973), действительного члена АН СССР, дважды Героя Социалистического Труда, автора и соавтора 46 новых сортов озимой пшеницы. Судя по тиражируемой в СМИ официальной биографии, основанной на справочных изданиях советского времени, он – выпускник Кубанского сельскохозяйственного института (КСХИ), где учился в 1922–1926 гг., после службы в Красной армии. А.Г. Федорченко – автор вышедшей в серии ЖЗЛ в 1984 г. и ныне мало востребованной книги о П.П. Лукьяненко – в целом воспроизвел основные события и исторический контекст юности своего героя и упомянул вскользь (со слов академика или членов его семьи), без указания фа- культетов и с ошибками в датировке, о первых попытках получения высшего образования [Федорченко, 1984, с. 90, 93]. Полностью проясняют ситуацию три удовлетворенных прошения П.П. Лукьяненко: о поступлении на экономический факультет СКПИ от 2 сентября 1919 г. (ГАКК. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 1006. Л. 186), переводе на сельскохозяйственный факультет уже объединенного вуза – КПИ от 2 ноября 1919 г. (Там же. Л. 189), выдаче документов в связи с поступлением в только что образованный Кубанский университет от 14 сентября 1920 г. (Там же. Л. 187), а также стипендиальные ведомости естественного факультета университета (ГАКК. Ф. Р-365. Оп. 1. Д. 877. Л. 37 об.). Судя по этим документам, будущий академик поступил в КСХИ после обучения в других вузах, где его учителями были известные в России специалисты в области естественных наук – беженцы из Петрограда и Москвы, Харькова и Киева (в начале 1920-х гг. большинство из них покинуло Кубань).
Ходатайство в тот же СКПИ одного из будущих создателей «эффекта Кирлиан» (способ фотографирования объектов различной природы посредством газового разряда) и автора других изобретений, C.Д. Кирлиана (1898–1978), также представляет интерес. Имея за спиной три класса школы Общества приказчиков (среднее образование он не получил и впоследствии), юноша оперативно отреагировал на появление в Екатеринодаре технического вуза: «Не имея образовательного ценза, настоящим покорнейше прошу Вас зачислить меня вольнослушателем на высшую ступень электромеханического отделения» (ГАКК. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 968. Л. 336). Б.Л. Розинг – проректор института, декан электромеханического факультета, выдающийся физик – дал положительную резолюцию. Данный документ может пролить свет на истоки научных открытий Кирлиана.
Множество посланий одного знаменитого адресанта позволяет составить представление о годах его студенчества. Проиллюстрируем это посредством анализа заявлений студентки ростовского ЖМИ А.Г. Клюевой.
Случай Антонины Клюевой
Из десятков сохранившихся личных дел студенток ЖМИ дело Антонины Клюевой (ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 359) вызвало интерес по двум причинам. Первая – наличие в нем пяти заявлений в 1918–1919 гг. и двух в 1916 г. в адрес руководства, вторая – неординарная личность заявителя.
Донская казачка Антонина (Нина) Георгиевна Клюева (1899–1971) окончила с отличием гимназию в Нахичевани-на-Дону, в 1916 г. поступила в ЖМИ, в начале 1921 г. получила диплом врача в Донском университете (куда институт влился в марте 1920 г.). Там же преподавала, параллельно работая в Бактериологическом институте. Сокурсницей, сотрудницей и соавтором первых публикаций А.Г. Клюевой была З.В. Ермольева – будущий изобретатель отечественных антибиотиков.
После переезда в Москву, в 1930-е гг. и позже, Н.Г. Клюева занималась разработкой противоракового препарата. В 1945 г. ее избрали членом-корреспондентом АМН СССР. Вместе с мужем и соавтором Г.И. Роскиным Н.Г. Клюева стала главным фигурантом дела «КР» (1948), связанного с публикацией в США монографии «Биотерапия злокачественных опухолей» [ Kre-mentsov , 2002].
В трех заявлениях А. Клюевой 1918–1919 гг. упоминается о ее болезнях, которые подтверждаются врачебными свидетельствами (тема эта фигурировала в заявлениях многих студентов в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией). В течение осени 1918 – весны 1919 г. она перенесла операцию в университетской клинике профессора Н.И. Напалкова, сыпной тиф и воспаление легких, в связи с чем «не имела возможности курировать больного и подать историю болезни в диагностической клинике профессора Гутникова» и нуждалась в переносе срока сдачи экзаменов (ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 359. Л. 7, 9). В письме от 20 декабря 1918 г. сообщается о пропаже зачетной книжки, находившейся в кармане похищенной шубы, и необходимости «собрать экзаменационные отметки у гг. профессоров и затем представить заполненную книжку в канцелярию Института» (Там же. Л. 11). Следующее послание информирует о том, что «в новую зачетную книжку собраны все отметки», кроме результата экзамена по физике, сданного в ноябре 1917 г. профессору А.Р. Колли, «о чем известно лично г. Директору профессору Колосову», а у преемника Колли – профессора В.И. Эсмарха «не осталось на этот счет никаких документов» (Там же. Л. 3). Заметим, что выбывший из состава преподавате- лей ЖМИ физик А.Р. Колли был одной из первых жертв Гражданской войны среди ростовской профессуры; он был убит уличной толпой после занятия Ростова-на-Дону Красной армией 11(24) февраля 1918 г. Факт этот широко обсуждался в белой прессе [Решетова, 1998, с. 175-178]. Письмо А. Клюевой транслирует повседневное «измерение» трагического события.
Заявление, датированное 3 декабря 1919 г., с просьбой выдать «удостоверение о том, что я состою слушательницей 4 курса Ж.М.И. для предоставления этого удостоверения в Управление Всероссийского Союза Городов» (Там же. Л. 5), доказывает факт работы Клюевой в находившемся в ведении этого союза Бактериологическом институте, который возглавлял профессор ЖМИ и Донского университета В.А. Барыкин и в котором трудились другие студентки-«медички»2. Опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, полученный в студенческие годы, во многом предопределил направление ее будущих научных исследований.
«Если студент пошел на службу, то только из-за нужды»
В самом начале Гражданской войны, в марте 1918 г., студенты 4-го курса обратились в Совет профессоров физико-математического факультета Донского университета с прошением: «Подавленные тяжелым безвременьем морально, необеспеченные материально из-за безработицы и отсутствия связи с домом, мы просим… разрешить нам приступить теперь же к экзаменам, не прерывая лекций и практических занятий» (ГАРО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 310. Л. 64). В большинстве писем этого года и последующего тема совмещения учебы и жизненно необходимой трудовой деятельности доминирует или присутствует наряду с другими.
Вопросы самообеспечения всегда были актуальными для выходцев из бедных семей. Наиболее распространенным видом заработка было репетиторство. Однако уже в годы Первой мировой войны ситуация изменилась и усугубилась после революции. Давать уроки студенты продолжали, о чем свидетельствуют многочисленные объявления в прессе, однако предложение значительно превышало спрос. Теперь все больше студентов вынуждено было идти на службу в правительственные, муниципальные, частные организации. Эта тенденция была зафиксирована современником, профессором В.В. Есиповым, на основе анкетирования студентов Донского коммерческого института ( Есипов , 1919, с. 20).
Незадолго до начала учебного года, 5(18) августа 1918 г., в газете «Приазовский край» появилась публикация «Нужда студентов», представляющая собою послание группы студентов - служащих городского управления Ростова-на-Дону в правление Донского университета. Они отреагировали таким образом на запрос данного ведомства в правление университета на предмет возможности продолжения студентами службы. «Положение студенчества в настоящее время поистине трагическое. Нуждающееся студенчество всегда жило уроками, заработки от которых в настоящее время почти аннулированы. Если студент пошел на службу, то только из-за нужды. Если вопреки законам логики и справедливости нам предложат выбирать: или учиться в высшей школе и бросить службу, или служить и бросить университет, то безусловно большая часть студенчества не покинет университета и будет искать на стороне заработок, который мог бы дать возможность учиться при возможных для человеческого существования условиях. Мы наймемся в сторожа, мы будем чистить сапоги, будем служить в ресторанах, будем искать какую угодно работу, лишь бы существовать. Но нам кажется, что обстоятельства, в которых мы будем тогда находиться, поставят нас в условия, менее благоприятные для продолжения обучения в университете, чем в настоящее время...», - писали студенты (Нужда студентов, 1918, 5 авг., с. 3). Сам факт появления темы в прессе говорил о ее актуальности.
В фондах различных организаций содержится множество заявлений студентов с просьбой о предоставлении работы. Как правило, они претендовали на должности, связанные с умственным трудом или даже с получаемой в вузе специальностью. Будущие медики и медички поступали в медицинские учреждения. Среди девушек была популярна канцелярская служба. Иногда сфера деятельности не оговаривалась вообще. А.Г. Ефанова писала атаману Кубанского казачьего войска: «Интересы края требуют, чтобы казачья молодежь шла в Политехникум, шла за знаниями, которые нужны Краю. Я пришла в Политехникум за этими знаниями, но я не имею работы. Я прошу Вас, Ваше Превосходительство, дать мне работу. Думаю, что войсковой атаман эту просьбу казачки уважит» (ГАКК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 107. Л. 8). Резолюции на заявлении «В Канцелярию Совета Правительства», «Снять копии и разослать по ведомствам» означали позитивную реакцию казачьего руководства на просьбу казачки.
Ходатаи информировали потенциального работодателя об образовании, навыках и опыте работы. Предпочтительно было служить в том же городе, где находился вуз, однако на летнее время 1919 г. студенты «подавались» в различные организации курортных зон (побережье Черного моря, Кавказские Минеральные Воды). Часто выбирать не приходилось, и студент, невзирая на первоначально желание, оказывался там, где была вакансия. Так, студент КПИ (ранее учившийся в Киевском коммерческом институте), казак станицы Абадзехской К.А. Беляев обратился к Секретарю Кубанского краевого правительства с целью сменить работу старшего канцелярского служащего Ведомства земледелия и занять «вакантное место помощника библиотекаря Кубанской Краевой Библиотеки» (фактически тихое место с доступными книжными ресурсами, так важными для учебы в вузе). В активе у К.А. Беляева было владение новыми и древними языками, «знание которых необходимо в библиотечном деле», курс переплетного мастерства при Ставропольской духовной семинарии, работа хранителем библиотеки в энтомологическом бюро Ставрополя (ГАКК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 107. Л. 14). Судя по всему, это не помогло. Резолюции на заявлении отсутствовали, но анкета, заполненная Беляевым двумя годами позже, свидетельствовала о том, что он в 1919 г. был заведующим отделом защиты растений в Агрономическом поезде, проводившем борьбу с амбарными вредителями в зернохранилищах Владикавказской и Черноморской железных дорог (ГАКК. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 688. Л. 13-13об.). Дипломная работа на тему «Насекомые - вредители зерна и муки и меры борьбы с ними» стала обобщением результатов практической деятельности.
Служба студентов, как и мобилизации, препятствовала выполнению учебного графика, что отразилось в большом количестве посланий вузовскому руководству начала 1920-х гг. с просьбами такого рода: «прошу при предстоящей регистрации студентов применить ко мне возможный перечень зачетов, учитывая то, что я являюсь фактически не студентом 1918 г., а студентом 1920 г.» (Н.Н. Милованов) (ГАКК. Ф. Р-229. Оп.1. Д. 18. Л. 4); «имеющиеся у меня зачеты сданы почти все в продолжении 21–22 года, а потому прошу считать меня более верно фактически приема не 1918 года, а 1920-го» (Г.Л. Красников) (Там же. Л. 7).
Студенческая самоорганизация
Существовавшие с дореволюционного времени самоуправляющиеся студенческие организации в Советской России, как известно, подверглись радикальной трансформации. Однако в годы Гражданской войны вне пределов советской юрисдикции, в том числе на Дону и Кубани, они воспроизводили прежние формы деятельности. Архивы их обнаружить не удалось; отдельные сведения имеются в периодической печати, материалах делопроизводства вузов и органов власти. Данные документы, проанализированные нами ранее [ Еремеева, 2017], свидетельствуют о ключевой роли студенческих обществ в борьбе за демократизацию вузовской жизни, налаживании быта, организации досуга. Ими реализовывались социально значимые инициативы (помощь раненым, беженцам, мобилизованным студентам). Продолжалась издательская деятельность: публикация учебников, которая была организована студенческими обществами, была реальным вкладом в снижение дефицита учебной литературы в условиях книжного голода.
Письма студенческих организаций «во власть» раскрывают иные аспекты деятельности этих организаций и дают ключ к пониманию ряда резонансных событий, в том числе имевших продолжение в начале 1920-х гг. В той или иной мере письма отражают особенности политической ситуации на Юге России, в условиях гражданского противостояния.
Датированное 26 августа 1918 г. письмо правления Студенческой общеказачьей станицы при Донском университете Большому войсковому кругу содержало приветственную часть («правление “Станицы” сыновним низким поклоном приветствует Большой Войсковой Круг как единственного Державного Хозяина тихого Дона…»), а также перечень «чаяний и нужд» казаков и казачек, обучающихся в вузах Ростова-на-Дону: «учреждение при Донском Университете кафедры истории казачества, перевод всех стипендий Войска в Донской университет, установление благоприятной нормы для казаков в Казачьем Донском университете, удовлетворение юного казачества во всех высших учебных заведениях», дабы «юные питомцы Дона, пробивающиеся к светочу высшего образования» могли принести «посильную пользу и родному казачеству и всему Тихому Дону» (ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 107. Л. 41).
Данный текст означал согласие авторов с политическим курсом П.Н. Краснова на автономию Дона, создание суверенного казачьего государственного образования. Обратим внимание на то, что казачьим (с большой буквы) студенты называют даже Донской университет, учреждённый постановлением Временного правительства на основе эвакуированного Варшавского университета.
Отметим, что решением совета управляющих отделами правительства Всевеликого войска Донского №1036 от 28 сентября 1918 г. при приеме в число студентов Донского университета «преимущество оказывалось казакам, уроженцам и постоянно проживающим на территории Войска, а также лицам, окончившим средние учебные заведения на данной территории» (ГАРО. Ф. 527 Оп. 1. Д. 31. Л. 68).
Компромиссную политическую позицию демонстрируют приветствия Студенческого научно-трудового общества медиков и медичек при Донском университете. Они были адресованы атаману П.Н. Краснову и Главнокомандующему А.И. Деникину. Это телеграммы, написанные по решению первого годичного собрания 11 ноября 1918 г., предложенные направить председателем общества профессором А.А. Жандром. Тексты оперативно опубликовали в журнале «Светлый путь» – органе учащихся высшей и средней школы. П.Н. Краснова благодарили «за ту отзывчивость к нуждам студенчества, которая проявилась в инициативе создания студенческой столовой», и просили «передать сердечный привет доблестной казачьей армии» (Генералу Краснову, 1918, №1, с. 14). В лице А.И. Деникина члены общества «искренне и горячо приветствовали Добровольческую армию, объединившуюся над идеей воссоздания всей нам дорогой единой великой России» (Генералу Деникину, 1918, №1, с. 14). Таким образом, студенческое общество публично присягнуло и казачьей, и белой власти. Через несколько дней, 16 (29) ноября, «Приазовский край» напечатал ответную благодарность атамана: «Счастлив хотя чем-нибудь помочь учащейся молодежи – светлому будущему Донской земли. Прошу говорить мне о своих нуждах» (Благодарность…, 1918, 16 нояб., с. 3).
Несмотря на то что студенческое общество сосредоточило свою деятельность на помощи раненым, трудоустройстве своих членов, проведении благотворительных мероприятий, издании учебников, после установления советской власти оно было признано контрреволюционным, а его руководители А.Н. Успенский, А.А. Жандр, З.В. Гутников 1 августа 1920 г. были расстреляны [ Решетова , 1998, с. 181–183]. Не исключено, что помимо спровоцировавшего внимание властных структур к обществу доноса студентов-коммунистов, в котором его деятельность подверглась негативной оценке, приведенные тексты могли стать весомым аргументом в пользу принятия столь жесткой меры.
Послание ситуативно созданной группы – Объединенного студенчества Кубанского и Северо–Кавказского политехнических институтов – в Ведомство народного просвещения Кубанского краевого правительства было вызвано противостоянием двух политехнических вузов в Екатеринодаре. СКПИ, основанный Обществом попечения о кубанском политехническом институте еще в период временного правления Советов, летом 1918 г., раздражал членов Кубанского правительства, и его деятельность пытались запретить. В начале 1919 г. был открыт правительственный КПИ. Приоритетным правом поступления туда пользовались «коренные жители Кубанского Края», причем они принимались предварительно, вне конкурса аттестатов. В конфликт даже вмешался А.И. Деникин, предложивший в письме на имя атамана Кубанского казачьего войска А.П. Филимонова создать объединенный вуз, обеспечив ему автономию и более широкий доступ в него всех слоев населения [ Куценко , 1999, с. 25–26].
В преддверии слияния вузов проходили дебаты на разных уровнях. В совместном заявлении студентов СКПИ и КПИ отмечалось: «Существование на Кубани двух одинаковых высших учебных заведений представляется нам неестественным и нецелесообразным, как создающее ненужное дробление научных и материальных сил, вносящее рознь в среду студенчества и не оправдываемое никакими принципиальными или практическими соображениями». Здесь же были изложены компромиссные, по мнению авторов послания, принципы приема в вуз и его функционирования: «…Широко открываются двери Института всем желающим; прием вне конкурса аттестатов обеспечивается всем, без различия национальности и вероисповедания, получившим в Кубанской области свидетельства об окончании среднего учебного заведения, а также коренными жителями Кубани. Выборность ректора, проректора и деканов представляет- ся студенчеству необходимой с первых дней существования Института. Ни один из функционирующих факультетов не должен быть закрыт при слиянии» (ГАКК. Ф. Р-5. Оп 1. Д. 269. Л. 81–81 об.). Какие-либо пометы на тексте отсутствуют.
Не исключено, что к некоторым пожеланиям студентов (как и других сторонников объединения СКПИ и КПИ) власти прислушались. Решение Совета Кубанского краевого правительства 5 сентября 1919 г. по поводу приема студентов в объединенный вуз являлось тоже своего рода компромиссом: « Предпочтение в приеме при прочих равных условиях, дается местным жителям Кубанского края, а затем окончившим курс учебных заведений Северного Кавказа» ( Протоколы заседаний..., 2008, с. 154-155). Это было более демократично, чем в прежнем Уставе КПИ.
Два вуза были объединены в сентябре 1919 г. в КПИ. Однако тема вузовского «дуализма» не была исчерпана, в том числе на уровне писем «во власть», в основном в Главпрофобр3, ввиду того что в начале 1920-х гг. предпринимались попытки закрытия КПИ как оплота контрреволюции и открытия СКПИ как изначально более демократичного учреждения. Письмо студента З.Т. Чухарько (ГАРФ. Ф. А-1565. Оп. 4. Д. 184. Л. 106-107) с подробным описанием деятельности данных вузов можно рассматривать как первую попытку изложения истории высшего образования на Кубани в годы Гражданской войны.
Заключение
Анализ писем «во власть» студентов, получавших образование в условиях гражданского противостояния на Дону и Кубани, позволяет сделать вывод о значительном потенциале данного источника для реконструкции разных аспектов студенческой жизни.
Интерпретация содержания писем предполагает учет местных особенностей развития высшей школы, интеллектуальной миграции, фактора вооруженного противостояния, а также политической борьбы в антибольшевистском лагере. Во многих случаях необходимо обращение к автобиографиям и анкетам студентов, периодической печати, делопроизводственным документам вузов, органов власти и управления. При этом очевидна уникальность писем «во власть» как источника, демонстрирующего персональный опыт, повседневные практики студентов, стратегии диалога с властными структурами.
Личностно иллюстрируя данные статистики, письма «во власть» конкретизируют представления о студенческом контингенте. Малая востребованность писем историками обусловила лакуны в ранних биографиях ученых, в том числе крупных, не желавших по понятным причинам вспоминать о годах студенчества за пределами Советской России.
Тематика писем руководству вузов не отличалась разнообразием и сводилась в основном к поступлению, переводу, восстановлению в нем, разрешению на сдачу экзаменов. Попутно излагались обстоятельства, скорректированных с учетом экстремальных условий, зачисления в вуз, мобилизациях, материальных проблемах, учебном процессе, преподавательском составе.
Направляемые студентами в различные инстанции (начиная с работодателя и заканчивая атаманом) просьбы о предоставлении, сохранении, смене работы дают возможность воссоздать способы их материального обеспечения. Публичные приветствия лидерам казачества и белого движения, послания в органы управления образованием, касающиеся реформирования высшей школы, могут быть рассмотрены как пример социальной пластичности студенчества в условиях существования противоречий между основными акторами антибольшевистской борьбы, а позже – как процесс адаптации к новой реальности.
В целом письма «во власть», отражающие широкий спектр проблем образовательной, трудовой, общественной деятельности в контексте вызовов времени и специфики места, могут стать важным ресурсом при написании коллективной биографии студентов «за линией фронта».
Список литературы Письма "во власть" как источник по истории студенческой жизни в годы гражданской войны
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-1565. Оп. 4. Д. 184; Ф. А-1565. Оп. 3. Д. 229.
- Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-3. Оп 1. Д. 2, 10, 11; Ф. Р-5. Оп 1. Д. 269; Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 107; Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 556; Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 8, 18, 21, 688, 831, 968, 1006; Ф. Р-365. Оп. 1. Д. 877.
- Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 42. Оп. 1. Д. 395; Оп. 2. Д. 1174; Ф. 527. Оп. 1. Д. 31, 310; Ф. 528. Оп. 1. Д. 32; Ф. 861. Оп. 1. Д. 107; Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 359, 407. Благодарность Донского атамана // Приазовский край. 1918. 16 (29) нояб.
- Генералу Деникину // Светлый путь. 1918. №1.
- Генералу Краснову // Светлый путь. 1918. №1.