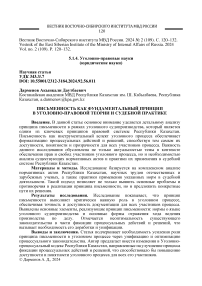Письменность как фундаментальный принцип в уголовно-правовой теории и судебной практике
Автор: Дарменов А.Д.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 2 (109), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: В данной научной статье основное внимание уделяется детальному анализу принципа письменности в рамках уголовного судопроизводства, который является одним из ключевых принципов правовой системы Республики Казахстан. Письменность, как инструментальный аспект уголовного процесса, обеспечивает формализацию процессуальных действий и решений, способствуя тем самым их доступности, понятности и прозрачности для всех участников процесса. Важность данного исследования обусловлена не только актуальностью темы в контексте обеспечения прав и свобод участников уголовного процесса, но и необходимостью анализа существующих нормативных актов и практики их применения в судебной системе Республики Казахстан.
Уголовное судопроизводство, языковой выбор, технологичность, аксиология, права, культурное многообразие, лингвистическое большинство, переводчики, формы фиксации, логическая последовательность, анализ языковых аспектов
Короткий адрес: https://sciup.org/143182589
IDR: 143182589 | УДК: 343.3/.7 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.92.56.011
Текст научной статьи Письменность как фундаментальный принцип в уголовно-правовой теории и судебной практике
Реализация принципа письменности уголовного процесса в общих условиях уголовного процесса связана c важной составляющей любого познания – его доступностью. для третьих лиц. В уголовном процессе данная необходимость является обязательной, ввиду оценки результатов познания всех познающих судом. А потому результаты познания должны быть отражены максимально просто для широкого круга лиц. Такая простота делает выражение позиции познающих необязательным в специфике юридического выражения. Особенно ярко доступность смыслового выражения проявляется в случаях, когда функции суда играет коллегия присяжных заседателей.
Здесь последняя дает свою, неюридическую оценку исследуемого события, а потому юридически интерпретированное выражение проекции исследуемого события способно только усложнить его оценку судом присяжных. Аналогичный довод вполне применим и для рассмотрения дела профессиональным судьей, судьями. Это связанно с тем, что юридическая оценка события предполагает придание обстоятельствам события неких формулировок, уже изначально оценивающих событие и искусственно предваряющих вывод об обстоятельствах подлежащих установлению и доказыванию по делу. Язык национального уголовного судопроизводства находит свое применение на основании реализации специального права участника уголовного судопроизводства [1, c. 106].
Терминологическими примерами такой оценки являются понятия «необходимая оборона», «крайняя необходимость» и прочие. Именно поэтому отражение проекции исследуемого события сторон должно быть приближенным не к оценке самого события, а к максимальной полноте описания юридических признаков, под которые подпадает та или иная проекция. На уровне же судебного решения такая проекция приобретает законченный вид, а потому, напротив, должна отличаться максимальным уровнем юридической оценки события, с точки зрения лингвистической точностьи. Впрочем, эти две крайние точки, отражаясь на специфике составления документов по делу, не влияют на основные элементы, реализующие принцип письменности в уголовном процессе, которыми можно считать:
– нормы о языке уголовного судопроизводства;
– основные формы отражения хода ведения производства по делу (протокол, постановление, запрос, приговор, представление, повестка, частное постановление и пр.
Анализируя настоящие элементы по уже представленной нами схеме, отметим, что как таковой наш анализ начинается с перечисления и описания сущности норм уголовно-процессуального законодательства, описывающих указанные нами элементы.
Первые из них представлены одной статьей УПК Республики Казахстан, которой является ст. 30 УПК Республики Казахстан «Язык уголовного судопроизводства». Основные формы отражения хода ведения производства по делу выражены гораздо более обширно. Общий список статей, представляющих это отражение, в числе двадцати пяти имеет следующий вид: ст. 116, 117, 119, 181, 182, 183, 184, 198, 199, 200, 283, 298, 299, 347, 347-1, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 405, 417, 560 УПК Республики Казахстан1.
Несмотря на такую обширность, его нельзя назвать в полной мере оптимальным. Так, если ст. 119 УПК Республики Казахстан «Протоколы процессуальных действий» описывает все случаи составления протоколов в ходе уголовного судопроизводства, то найти в данном кодексе аналогичную по характеру статью, описывающую сущность постановления, как документа, отражающего процессуальное решение в уголовном процессе, мы не можем. Отдельные статьи сего кодекса (ст. 198 «Постановления, выносимые в ходе досудебного расследования», ст. 405 «Частное постановление») по своему содержанию лишь вносят хаос в понимание сущности постановления как документа, отражающего процессуальное решение. Поскольку при всей своей оптимальной емкости ст. 198 «Постановления, выносимые в ходе досудебного расследования», не распространяется на судебные стадии, а ст. 405 «Частное постановление» не фокусирует внимания на сути постановления, выносимого в судебной стадии. В целом же, все виды решений и действий, которые описывает УПК Республики Казахстан, с точки зрения отражения их сути, можно классифицировать следующим образом:
– Заключения, протоколы, заявления, рапорты, постановления, представления, обвинительные акты, приговоры, жалобы, протесты, запросы.
Такая, хоть и суженая, но дифференцированная картина всех видов отражения решений и действий в уголовном процессе не может не взывать к научным трудам изучающим сущность решений и их оформления в уголовном процессе. Безусловно, наиболее значимым из таковых является исследование П.А. Лупинской описывающей интересующий нас вопрос в контексте единства содержания и формы решения. Изучение данного труда позволяет утверждать о следующих специальных формах отражения решений и действий в уголовном процессе:
-
– для всех видов решений: постановления, определения и приговоры;
– для всех видов действий: протоколы [2, c. 144].
Мы практически полностью согласны с данным подходом, за исключением некоторых замечаний. Так, мы полагаем, что все виды информативных процессов в уголовном процессе можно разделить на несколько категорий.
К первой из них нужно отнести решения и действия осуществляемые познающим события в целом. Это процессы, осуществленные лицами, ведущими производства по делу и отраженные посредством постановлений и протоколов;
Ко второй категории можно отнести различного рода отражения результатов решений и действий, выводов отдельных участников процесса;
В третью категорию входят различного рода отражения действий и решений, выводов третьих лиц, не являющихся участниками процесса
Вместе с тем наиболее значимой для ведения производства является первая категория как устанавливающая специфику письменного отражения познающего лица, отягощенного вследствие своей роли обязанностями точного выражения познанного. Представители второй и третьей категории не входят в число лиц, которые обязаны следовать специфической форме отражения информации уже потому, что познавательная деятельность по исследованию криминального события не соответствует их юридическим и специальным навыками и знаниями, которыми они владеть не обязаны. Здесь их помощь в познании является добровольным актом, не требующим освоения юридических тонкостей оформления предоставляемой ими информацией. К примеру, предоставление экспертом того или иного заключения, оценочного акта, акта ревизии, экспертного листа, вывода, акта экспертизы и т. д. имеет значение только лишь в контексте содержания данного документа, но не его реквизитов, названия и прочих условных требований, предъявляемых к тому или иному типу документа.
В этом плане рассуждать о специфике юридического оформления уголовнопроцессуальной деятельности можно лишь в контексте лиц, ее осуществляющих, т. е. ведущих производство по делу. Таким образом, письменность как принцип уголовного процесса находит свое отражения в правилах, устанавливающих порядок и условия фиксации решений и действий лиц, ведущих производство по делу. Все это предполагает рассмотрение реализации принципа письменности в уголовном процессе в трех аспектах. Первые два базируются в радиусе решений и действий, осуществляемых и фиксирующихся лицами , ведущими уголовное судопроизводство. Здесь описанию подлежат как вопросы определения видов фиксации решений и действий данных лиц, так и требования, предъявляемые к самому процессу фиксации. Третьим аспектом является собственно идиоматический момент, связанный с установлением языка судопроизводства или их множественностью.
В этой связи следует обратить внимание на то, что видовая классификация способов фиксации решений и действий лиц, осуществляющих ведение уголовного процесса, базируется вокруг постановлений и протоколов как основных составляющих производственного процесса по осуществлению уголовнопроцессуального познания. Как мы отметили выше, состояние их закрепления в уголовно-процессуальном законодательстве нельзя назвать верным. Приведем несколько доводов в обоснование такого утверждения.
Так, изучение сути приговора, представления, обвинительного акта свидетельствует о том, что все они выражают решение лица , осуществляющего уголовный процесс, а формальные признаки такого решения являются абсолютно едиными. Именно поэтому их деление на документы, носящие разное название, является не более чем фикцией лексического типа, с таким же успехом можно было бы определить специфическое название для каждого вида такого решения, после чего полагать, что особенность наименования документа является решающим качеством оптимизации уголовного процесса [3, с. 577]. Например, для оформления решений о применении мер пресечения в уголовном процессе можно было бы придумать название в виде «предупредительная мера». Сугубо формально это дает нам право заявить, что самим названием мы приблизились к сути решения, а значит , сделали уголовный процесс точнее.
Между тем характер выражения решения в уголовном процессе един, что делает такую точность малоосмысленной с точки зрения классификационной простоты, а значит, такая точность способна лишь вызвать разного рода хаотические толкования принимаемых решений, последствия которого предугадать трудно. Не можем мы обнаружить никаких плюсов такой дифференциации и с точки зрения правоприменения. Не будем отрицать, что отдельные виды решений имеют весьма внушительное название в виде терминов «приговор», «представление», однако такая внушительность, с нашей точки зрения, находится в плоскости эмоционального восприятия решений. Поэтому было бы верным полагать, что все решения в уголовно процессе должны отражаться посредством вынесения постановления и не более.
Такой подход снимает множество дуалистических трактовок отдельных решений, в том числе проблему, связанную с тем, что «протокол обвинения» (ст. 191 УПК Республики Казахстан) фактически выполняет функцию оформленного процессуального решения о виновности лица, что неверно даже исходя из законодательной интерпретации сути постановления и протокола в уголовном судопроизводстве (ст. 197-199 УПК Республики Казахстан). Поэтому приведение названия документов, отражающих решения и действия лиц, осуществляющих уголовный процесс в соответствии с понятиями постановления и протокола, указанными в вышеобозначенной сноске, несет позитивную функцию оптимизации уголовного процесса.
Это было бы правильным сточки зрения унификации судопроизводства, да и с точки зрения логики.
Несколько иной вопрос возникает при изучении сущности протоколов как письменного выражения результатов действий либо самого действия в уголовном процессе. Изучение уголовного процесса свидетельствует о том, что в действующей практике не все действия лиц, осуществляющих уголовный процесс, оформляются посредством составления протокола. Зачастую они оформляются справкой о проделанной работе, что весьма логично в ситуации, когда полученная информация имеет место и в результате процессуальных, и в результате следственных действий. К примеру, отдельные поисковые действия нельзя отразить как процессуальные, что ставит вопрос о том, что понятие протокола, как процессуального документа, в котором фиксируется процессуальное действие, совершаемого органом, ведущим уголовный процесс (ст. 7 УПК Республики Казахстан), не способно объять собой все виды деятельности лица, осуществляющего уголовный процесс. Тем более что такие виды письменного отражения деятельности лица, осуществляющего уголовный процесс, и вовсе не отражены в уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан (имеются в виду различного рода справки, в том числе о проделанной работе). Нужно отметить и некоторую разницу между отражением действий и результатов действий лица, осуществляющего производство по делу, в случае с составлением протокола и отражением результатов действий в случае со справкой о проделанной работе.
К такой же категории письменных документов, не входящих в группу протокольной фиксации, мы можем отнести и запрос, отражающий поисковую деятельность лица, осуществляющего уголовный процесс. Все это заставляет нас сделать вывод о том, что и запрос, и справка о проделанной работе являются самостоятельными формами отражения деятельности лица, осуществляющего производство по делу. Здесь же следует отметить, что запрос не может быть отражен в форме требования-решения-постановления уже потому, что последнее характеризуется обязательностью, невозможной для случаев обращения к органы иностранных государств.
Это предполагает, что запрос в полной мере не может быть отождествлен с решением по делу и требует самостоятельной письменной формы отражения. Таким образом, помимо протокола, как формы отражения действий и прежде всего действий лица, осуществляющего производство по делу, можно говорить о наличии письменных форм отражения отчета о результатах проделанной работы, действиях, носящих не процессуальный характер, а также запрашивания той или иной информации, имеющей значение для дела, и виде запроса и справки о проделанной работе. Тот факт, что существование таких форм в уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан не находит своего должного отражения, еще не означает отсутствие таких форм уже потому, что они являются частью фактической уголовно -процессуальной деятельности лица, осуществляющего производство по делу. А потому в полной мере относятся к основам, требующим своего законодательного регулирования. В этой связи все виды документов, письменно отражающих деятельность лица, осуществляющего производство по делу, следует считать:
-
- постановления - для всех видов уголовно-процессуальных решений;
-
- протоколы - для всех видов уголовно-процессуальных действий;
-
- справки о проделанной работе - для всех видов результатов непроцессуальных действий;
-
- запросы - для всех случаев некатегоричного истребования информации.
Что же касается требований, предъявляемых к самому процессу фиксации, то мы должны отметить высокое значение данного аспекта уже потому, что сущность данного момента исследования составляют аспекты отражения данных решений, а не сами решения. А потому важнейшим аспектом нашего исследования является определение критерия отражения с точки зрения материальной фиксации познания, а не с точки зрения фикции оценки доказательств, выраженных посредством такой фиксации. Так, отдельные ученые отмечают, что теория формальных доказательств соответствует уровню развития общественных отношений и правосознания людей каждого конкретного периода человеческого развития, и отвечает объективным потребностям данного исторического этапа [4, с. 163].
В этой связи всю фиксацию уголовно-процессуального познания можно разделить на два видовых элемента. Первым является непосредственный этап, который заключается в механической фиксации познаваемого. Данный этап характерен для случаев объективного познания ситуации, в которой те или иные фиксирующиеся объекты еще не в полной мере идентифицированы с доказательствами и не являются частью доказательственной деятельности. Вторым является этап окончательной фиксации познанного, характерный для судебных стадий, в которых тот или иной факт приобретает окончательную юридическую оценку.
Разница данных видов фиксации определяется тем, что если последний вид фиксации обязательно носит письменный характер и фиксируется протоколом судебного разбирательства, судебным решением, то фиксация на непосредственном этапе может выражаться и в электронном форме (видео, аудио). Особенно это характерно для действий, связанных с фиксацией преступной деятельности, которые уже позднее приобретают письменное отражение. Во многом это обусловлено высокой информативностью фиксируемых элементов, которых на непосредственном этапе гораздо больше, чем на этапе окончательной оценки познанного. В этом контексте «непосредственная» фиксация является непременной частью дедуктивного познания действительности. Сама же разница между фиксацией непосредственного и окончательного типа определяется:
-
- дифференциацией необходимости использования средств электронной и письменной фиксации;
-
- субъектами познания и, как следствия, фиксации;
-
- отдельными фикциями, носящими характер гарантий истинности фиксируемого (использование понятых и пр.).
С точки зрения познавательной процедуры фиксации значение имеет лишь первый момент, поскольку в случае с непосредственной фиксацией электронные способы являются относительно более тщательными, нежели чем выборочная фиксация письменного характера. Тем самым создаются предпосылки для последующей оценки фактов и их выборочного отражения на уровне выводов, решений. Это предполагает наличие перспективных тенденций расширения электронного арсенала фиксации познания на досудебном этапе производства по делу, при четком сохранении константы письменного отражения на судебных стадиях.
Сама же электронная фиксация несколько отличается от письменной, что обусловлено ее механикой и расширенными возможности восприятия фиксируемого.
Мы считаем, что общими критериями, предъявляемыми к электронной форме отражения познания, являются:
-
- электронное качество фиксации, позволяющее воспринимать фиксируемое как процесс, элементы которого можно как-то идентифицировать;
-
- качество электронного материала должно предполагать, что электронная фиксация подлежит минимальному хранению хотя бы в объеме 2-х месяцев (минимальный срок производства по делу);
-
- электронный носитель материала может быть использован с помощью наиболее доступных электронных средств, включая такой язык шифрования электронной записи, который может быть воспроизведен с помощью бытовых электронных средств);
-
- электронная запись должна содержать указание на место и время осуществления познавательного действия или принятия решения.
Тут же заметим, что в отечественном уголовном процессе нам неизвестны случаи электронной фиксации процессуальных решений, что вовсе не исключает их существования при ведении электронного делопроизводства.
В свою очередь, требованиями, предъявляемыми к письменной форме фиксации деятельности лица, ведущего производство по делу, являются:
-
- качество письменного носителя, предполагающего возможность сохранения информации на минимальный срок, не менее 20 лет (что обусловлено существующими сроками давности);
-
- идиоматическую доступность письменного изложения фиксируемого материала;
-
- указание на место и время осуществления познавательного действия, запроса или принятия решения, условий, могущих повлиять на оценку познания (дождь, снег и пр.);
-
- указание на познающее лицо, лицо, осуществляющее письменную фиксацию действия, запроса, решения;
-
- сущность принятого решения или действия, запроса, результаты действий;
-
- мотивировку принятого решения.
Следует обратить внимание, что здесь нами перечислены абсолютно все требования к письменному отражению уголовно-процессуальной деятельности как таковой. Безусловно, в деталях они различаются спецификацией по отношению к каждому виду отражения. Например, в случае с составлением запроса требование о его мотивировке ограничивается формальным правом запрашивающего лица на получение ответа, а в случае, если такового нет, то мотивировка отсутствует и вовсе.
Третьим аспектом, как мы уже обозначили выше, является идиоматический момент, связанный с установлением языка судопроизводства или их множественности. Нужно отметить, что так или иначе вопросы языка в уголовном процессе исследовались многими учеными [5], [6], [7]. Изучение данных трудов указывает на отсуствие единого подхода к понимаю сути абстракции языка уголовного судопроизводства.
Заметим, что логически он, казалось бы, вполне соотносим к общим правилам фиксации действий, решений, запросов по уголовному делу. Вместе с тем его самостоятельное существование в качестве общего условия определяется уже лишь тем фактом, что положения о языке уголовного судопроизводства носят более общий характер, чем положения, определяющие характер выражения уголовного судопроизводства, письменного или устного, тем более если речь идет о том, что таковое фокусируется прежде всего на деятельности лица , осуществляющего уголовное судопроизводство.
Таким образом, рассуждая о языке уголовного судопроизводства , мы говорим в целом об идиоматическом выражении познания, далеко не всегда отражаемого на изначальном языке лица, воспринимающего события. Это означает, что какой-либо источник информации на том или ином языке должен логически соответствовать одному официально выбранному языку судопроизводства, что обеспечивает непротиворечивость уголовно-процессуального познания в лексическом и интрепритационнном смысле. Как следствие, это относится и ко всей документации, фигурирующей в уголовном деле, которая, ввиду логического требования доступности, должна быть изложена на одном языке, либо переведена, прокомментирована на одном языке. Заметим, что такая документация может выходить далеко за пределы официальных языков республики Казахстан. Именно поэтому участие переводчика в уголовном процессе является одной из последующих конкретизаций языковой абстракции.
Сами правила языка уголовного судопроизводства могут базироваться на следующих составляющих:
-
- определение языка уголовного судопроизводства или их группы;
-
- определение дуалистических, полиязычных начал уголовного судопроизводства, в случае возможности использования группы языков в уголовном судопроизводстве.
Первая из указанных составляющих является основной по отношению ко второй и выражается в двух проекциях. К ней относится категоричное, волевое определение в качестве такого языка, одного из используемых на территории государства. Данный подход имеет ряд плюсов и минусов. К числу плюсов можно отнести факт, что этот язык выступает средством культурной ассимиляции народов страны и постепенно вытесняет из оборота прочие языки, не определенные в качестве официальных языков использования.
Такой подход исторически был избираем множеством стран, в результате чего Южная Америка является практически вся латинской, а северная разговаривает на английском языке. Все народы, не согласные с такой политикой, были так или иначе стерты с лица планеты. Именно по этой причине указанный плюс можно также считать и минусом, ибо культурное многообразие возможно только в условиях сохранения языка и его использования, в том числе официального. Безусловно, сужение сферы использования родного языка влечет за собой и вероятность отторжения «титульной» культуры вообще, существенно увеличивает вероятность миграции, либо восстания населения.
При этом для КНР этот конфликт опасен лишь политически, ибо культурных сепаратистов могут поддержать внешние силы. В случае же когда культурное многообразие превышает 50 % от числа населения, вероятный конфликт может перерасти в полноценную гражданскую войну, примером является Югославия 90-х годов. В этом контексте категоричное указание на один язык уголовного судопроизводства весьма опасно по своим последствиям.
Вторым плюсом можно считать упрощение самого судопроизводства, что связано с низким культурным уровнем населения, неспособного воспринимать два и более языков одновременно. В ситуации такой лингвистической ограниченности единственным выходом зачастую является выбор одного языка, что как минимум сокращает расходы по привлечению переводчиков и снижает когнитивный диссонанс уголовного процесса;
Второй составляющей является полиязычность уголовного судопроизводства. Основы последней связаны с указанием на группу языков, которые являются равноценными дл использования в уголовном процессе. Примером является уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан (ч. 1 ст. 30 УПК Республики Казахстан). Вместе с тем такое правило предполагает определение условий выбора языка уголовного судопроизводства в начале производства по делу. И здесь, к сожалению, отечественное уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан содержит большой пробел, ибо таких условий просто не описывает.
Следует тут же отметить, что несмотря на относительно не маленький объем исследований, посвященных языку судопроизводства, мы, к сожалению, не смогли обнаружить специализированных исследований, в которых бы детально освещался вопрос выбора языка уголовного судопроизводства. Так, к примеру, диссертационное исследование Я. М. Ишмухаметова в основе своей ориентировано на аргументацию утверждения о том, что принцип языка уголовного процесса реализует права участников процесса [8, с. 59]. С точки зрения юридической герменевтики А. С. Александров пытается исследовать вопросы языка в уголовном процессе [9, с. 145]. Но как нам ни стыдно заявить, мы не обнаружили ни одного научного исследования, содержащего основы логики определения языка судопроизводства. Исходя из общих безадресных представлений и собственного понимания сути данного вопроса, можно утверждать, что язык уголовного судопроизводства может быть определен на основании:
-
- большинства населения района, области, места, региона, в котором осуществляется досудебное производство по делу;
-
- большинства участников уголовного процесса по расследуемому событию;
-
- языка заявления о совершенном преступлении.
Изучение данного вопроса свидетельствует о наличии проблем в определении языка уголовного судопроизводства уже потому, что лингвистическое большинство населения места осуществления судопроизводства не всегда, даже и примерно, совпадает с лингвистическим статусом участников процесса. Определить же лингвистическое большинство участников процесса тоже не всегда представляется возможным уже потому, что в начальный период производства по делу эти участники и вовсе еще не установлены. А динамичная реакция установления этих лиц будет являться основанием неоднократного изменения языка уголовного судопроизводства, что отрицательно сказывается на самом процессе познания.
В этой связи, казалось бы, позитивным можно считать подход, при котором «права жертвы преступления выдвигаются на первый план» и проявляются в том, что язык уголовного судопроизводства определяется, исходя из языка заявления, сообщения о преступлении. Однако такой наш довод начинает конкурировать с проекциями, в которых язык подачи заявления не совпадает с языком прочих участников процесса, включая подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, чьи права так рьяно защищаются «поборниками человечности уголовного процесса» и так активно поддерживаются международными организациями, зачастую снабжаемыми иностранными спецслужбами.
В этой связи вновь возникает дискуссия между технологичностью в выборе языка уголовного процесса и аксиологией, как инвазией в уголовном процессе [10, c. 110].
И здесь мы делаем выбор в пользу технологичности как правила, способного логично указать на источники установления языка судопроизводства. Это проявляется в том, что на момент совершения преступления, уголовного правонарушения, лицом, чьи интересы защищаются, является жертва преступления. Именно она обращается за помощью в правоохранительные органы, именно во имя ее интересов (при ее беспомощном состоянии) уголовное дело может быть возбуждено представителями власти. В такой ситуации никаких явных источников, указывающих на приоритет лингвистического выбора, за исключением интересов жертвы, быть не может. Это заставляет нас полагать, что определение языка судопроизводства, исходя из языка заявления, сообщения о совершенном правонарушении, весьма разумно. По нашему мнению, в последующем, но не ранее установления лица, совершившего правонарушение, исходя из логики лингвистического большинства участников процесса, язык уголовного процесса может быть изменен. В целом под общим условием уголовного процесса «формы отражения деятельности лиц, осуществляющих производство» по делу, мы понимаем совокупность правил, устанавливающих условия, порядок и виды фиксации деятельности лиц, осуществляющих производство по делу, и требования, предъявляемые к данному процессу.
Таким образом, в результате основное внимание в исследовании было уделено различным способам фиксации деятельности и языковой рефлексии участников уголовного процесса. В ходе исследования были выявлены три фактора – технологический выбор языка, культурное разнообразие и права потерпевших, которые диктуют текстовые границы уголовного судопроизводства. Предложение технологического подхода к выбору языка судопроизводства – начиная с языка уголовного заявления – является важным аспектом, которое позволит более эффективно обеспечивать интересы участников процесса. Исследование предлагает новые методы решения языковых проблем, признавая их важность в контексте уголовного процесса.
Список литературы Письменность как фундаментальный принцип в уголовно-правовой теории и судебной практике
- Яковлев М.М., Корякина З.И. Язык национального уголовного судопроизводства М.М. Яковлев, З.И. Корякина // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. - 2014. - № 2. - С. 104-110. EDN: SLPJMT
- Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. - М.: Юристъ, 2006. - 174 c.
- Шульгин Е.П. Оптимизация деятельности правоохранительных органов посредством внедрения электронного досудебного расследования / Е.П. Шульгин // Следственная деятельность: проблемы, их решение, перспективы развития: материалы III Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. - М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2020. - С. 576-578. EDN: FXQBAY
- Можаева И.П., Шульгин Е.П. О понимании доказательств в правоохранительной деятельности в эпоху цифровых преобразований / И.П. Можаева, Е.П. Шульгин // Юристъ-Правоведъ. - 2022. - № 4(103). - С. 162-167. EDN: MVEQAW
- Джафаркулиев М.А. Проблемы национального языка судопроизводства в правотворческой и правоприменительной деятельности на современном этапе: дис.... докт. юрид. наук. - М., 1990. - 439 c. EDN: ZKRBDX
- Стеснова Т.И. Реализация принципа национального языка при расследовании и рассмотрении уголовных дел: дис. … канд. юрид. наук. - М., 1993. - 167 c. EDN: ZJTTVV
- Леонтьев А.А., Шахнорович А.М., Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии; отв. ред.: А.А. Леонтьев. - М.: Наука, 1977. - 62 c. EDN: YMSYHN
- Ишмухаметов Я.М. Язык судопроизводства как принцип российского уголовного судопроизводства: дис.... канд. юрид. наук. - Ижевск, 2006. - 204 c. EDN: NNZMTR
- Александров А.С. Язык уголовного судопроизводства: дис.... докт. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2003. - 650 c. EDN: NMQZKX
- Степанова В.Г. Уголовно-процессуальная форма и письменность уголовного процесса как институциональный принцип предварительного расследования // Юридический вестник Самарского университета. - 2019. - №3. - С. 108-113. EDN: VCLBJH