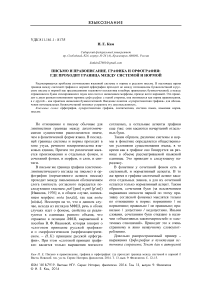Письмо и правописание, графика и орфография: где проходит граница между системой и нормой
Автор: Ким Игорь Ефимович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема соотношения языковой системы и нормы в русском письме. В настоящее время граница между системой графики и нормой орфографии проходит не между потенциалом буквосочетаний в русском письме и нормой как предписаниями языкового коллектива в выборе правильных буквосочетаний, а между отражением в букве изолированного звука или слога и написанием морфемы, прежде всего корневой. Это приводит к двум разным пониманиям термина орфография: с одной стороны, она понимается как норма правописания, а с другой - как практика написания буквосочетаний. Введение понятия «суперсегментная графика» для обозначения потенциальных буквосочетаний поможет устранить эту двусмысленность.
Орфография, суперсегментная графика, синтагматика, система языка, языковая норма, письмо
Короткий адрес: https://sciup.org/147219187
IDR: 147219187 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Письмо и правописание, графика и орфография: где проходит граница между системой и нормой
По отношению к письму обычные для лингвистики границы между дихотомиче скими сущностями располагаются иначе , чем в фонетической форме языка . В послед ней границы системы и нормы проходят в зоне узуса , речевого воспроизводства язы ковых единиц . Причем это различение каса ется произношения и отдельных фонем , и сочетаний фонем , и морфем , и слов , и син тагм .
В письме же граница графики (системнолингвистического взгляда на письмо) и орфографии (нормативного аспекта письма) проходит между письменным обозначением слога (мягкость согласного передается последующим гласным: раб [рап] и ряб [р’ап]) [Иванова, 1976] и, в общем случае, написанием морфем: вода [в∧д|á], так как воды [вóд|ы]. Несмотря на то, что в данном случае, исходя из взглядов МФШ, речь в обоих случаях идет о фонеме, свойства ее реализуются в единицах разного объема, что отражено в позиции ЛФШ, выраженной в пособии В. Ф. Ивановой, которая говорит о «слоговом принципе русской графики» и о «морфологическом (морфемоцентрическом. – И. К.) принципе русской орфографии». При этом «слоговой принцип графики» касается только выражения мягкости согласных, а остальные аспекты графики еще ýже: они касаются начертаний отдельных букв.
Таким образом , различие системы и нор мы в фонетике определяется общественны ми условиями существования языка , в то время как в графике оно базируется на раз нице в объеме рассматриваемой языковой единицы . Это приводит к следующему па радоксу .
В фонетике у сочетаний фонем есть и системный , и нормативный аспекты . В то же время в графике системный аспект каса ется отдельных знаков , а для их сочетаний остается только нормативный аспект . Таким образом , сочетания букв ( за исключением выражения мягкости парной по этому при знаку согласной фонемы ) мыслятся только по отношению к норме : нормативно / не нормативно ; правильно / не правильно ; пра вильно / допустимо / недопустимо . Иными словами , сочетаниям букв отказано в нали чии « объективных закономерностей » и « сис темных отношений ». Приводит это к очень странному и явно ненаучному словоупот реблению .
Довольно распространенный пример – выражения Орфография и пунктуация ис точника сохранены ; Текст дан в авторской
Ким И . Е . Письмо и правописание, графика и орфография: где проходит граница между системой и нормой // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 9: Филология. С. 12-15.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 9: Филология © И. Е. Ким, 2014
орфографии и подобные , ср ., например : Замдиректора « Агентства журналистских расследований » и частый автор петербург ского издания « Фонтанка . ру » ( входит в АЖУР ) Евгений Вышенков 17 февраля напи сал , что хорошо знал Броновского . Вышен ков охарактеризовал фигуранта дела сле дующим образом : « Сегодня в кинотеатрах Петербурга идет в прокате фильм Скорсе зе “ Волк с Wall Street”. По сути , Марк очень похож на главного героя , которого исполня ет ДиКаприо . Только внешне Броновский другой – скромный и незаметный » ( сохра нена орфография оригинала ) 1. В данном случае речь идет о « буквоупотреблении » автора , причем обязательно в той или иной мере ненормативном , а не о норме , что вы текает из внутренней формы и значения термина . Сравните подобное выражение в отношении фонетики : * Мы воспроизводим орфоэпию этого человека .
Еще одно парадоксальное понятие – ор фографическая практика . Ср . типичное на звание статьи « Вариантность и орфографи ческая практика » 2 или «“ Правила русской орфографии и пунктуации ” (1956 г .) и орфо графическая практика » [ Букчина , 1974]. Если правила кодифицируют орфографию , то практика может ей соответствовать или не соответствовать . Таким образом , речь в этих и подобных статьях идет не об орфографиче ской ( формулирование правил ), а о графиче ской ( написания словоформ ) практике .
Кроме того , историки языка часто гово рят о « древнерусской орфографии ». Напри мер , одна из монографий , посвященных древнерусскому письму , называется « Гра фические и орфографические особенности памятников русской письменности XV ве ка » [ Ненашева , 2010]. Поскольку непонятно , о какой орфографии может идти речь при отсутствии кодификации письменной нормы , слово орфографический в данном случае , ско рее всего , используется для обозначения ре альной сочетаемости букв , наблюдаемой в текстах , т . е . узуса и системы , а отнюдь не нормы . Но другого термина для обозначе ния реальной сочетаемости букв нет .
Казалось бы , не так страшно использова ние терминов орфография и орфографиче ский в таком расширенном , а точнее , сме щенном понимании . Однако использование термина с « нормативной » внутренней фор мой совсем небезобидно . В восприятии не специалиста и в непроизвольном воспри ятии специалиста такая внутренняя форма будет неявно создавать искаженное представ ление об обязательном следовании письмен ной норме со стороны писца , о сходстве древнерусской письменной культуры , ори ентированной на традицию , и современной письменной культуры , основанной на отно шении к кодифицированной норме . И вы ражение орфография источника тоже спо собно породить мнимое знание о том , что какой - то человек сформулировал свои орфо графические правила , которым следует .
Не отрефлектированная лингвистикой по лисемия термина орфография приводит и к особому отношению к орфографической норме как у лингвистов , так и у рядовых носителей языка : поскольку нет других за кономерностей в написании сочетаний букв , кроме орфографии , она воспринимается как жесткое предписание , едва ли не более весо мое , чем иные нормы права . И почтение рус ского народа к русскому языку выражается именно в потребности рядового русофона ( а прежде всего « русографа ») в наличии вы сокого и точного образца для написания слов , идеала , которому он не обязательно готов соответствовать и следовать .
Как мне кажется , отсутствие термина для системно - теоретического описания сочета ний букв привело и к ориентации традици онной школьной программы ( серия учебни ков под редакцией Н . М . Шанского ) и даже курса развивающего обучения для началь ной школы В . В . Репкина на орфографию . Нормативное написание слов и морфем ста ло мерилом языковой грамотности и лин гвистической компетенции учащихся .
Все это говорит о необходимости отдельного термина для системного описания сочетаний букв. По уже существующему в лингвистике терминологическому образцу этот раздел дисциплины, изучающей письмо как языковую форму, я предлагаю назвать суперсегментной графикой. Суперсегментная фонетика (просодия) изучает сочетания фонем: слог, фонетическое слово, синтагму. Суперсегментная графика должна изучать сочетания графем, и прежде всего графиче- ское слово и графическое предложение, причем изучать их не в нормативном аспекте, как орфография, а в системном.
Обратим внимание на то , что , согласно общепринятой точке зрения , у фонемы нет плана содержания , а у графемы он есть . В об щем случае это фонема . Вопрос в том , в рам ках какой фонологической школы должна пониматься фонема , чтобы ее особенности отражали именно системный , а не норма тивный взгляд на графическое слово .
Сравнение теоретического описания ор фографии с позиций МФШ [ Кузьмина , 1981] и с позиций ЛФШ [ Иванова , 1976] показало , что фонема в понимании МФШ и ЛФШ не объясняет вариантности реальных написа ний того или иного слова .
С одной стороны , фонема московской школы выглядит как своеобразный компро мисс между данными экспериментальной фонетики и требованиями орфографии . По сути , русская орфография вынудила МФШ искать причины несоответствия произноше ния буквы в составе слова и ее алфавитного значения , что привело к представлению о фонеме как наборе позиционных вариантов , из которых графически должен быть пред ставлен вариант , максимально контекстно независимый .
С другой стороны , « ленинградская » фо нема не объясняет разнообразия реальных написаний , ограниченного при этом опреде ленными рамками . Именно в этом месте мы можем говорить об узусе буквосочетаний и о системных отношениях , синтагматике бу квы .
Интересный материал для понимания системных отношений в графике дает ис следование Л . Б . Парубченко [2004], кото рое представляет собой осмысление ошибок в употреблении букв ( т . е . фактов ненорма тивного письма ) с позиций фонологии и , в меньшей степени , морфемики . При этом за точку отсчета для фонологической интер претации ошибок взята теория Московской фонологической школы , приверженцем ко торой является Л . Б . Парубченко .
Приведенный Л . Б . Парубченко материал поражает своим разнообразием . Можно ска зать , что он демонстрирует потенциал русской графики , те выразительные возможности , ко торые заложены в русской графической сис теме .
В различиях нормативного и ненормативного письма, обнаруженных Л. Б. Па- рубченко, как раз сталкиваются отношения системы письма и орфографической нормы. Известно, что языковая система представляет собой сложно организованный комплекс вариантов, которые по большому счету безразличны к норме, но зависят от узуса. Норма по отношению к системе выполняет роль фильтра, который может быть довольно грубым, допускать вариативность, а может быть тонким, не пропускать в употребление никакие варианты, кроме «единственно верного». По отношению к буквенному уровню письма понятие нормы оказалось настолько самодовлеющим, что в теории графики практически не обсуждается графическая система как потенциал варьирования. Поэтому прежде чем обсуждать нормативность или ненормативность письма, необходимо установить потенции графической системы, т. е. серии вариантов буквенных написаний в одной и той же графической позиции, имеющих одинаковое фонетическое прочтение. Ненормативное русское письмо, пробивающееся сквозь фильтры орфографии, как раз и показывает масштабы этого варьирования. А орфография выбирает из этого разнообразия только один вариант, чаще всего обусловленный стремлением к единообразному графическому обозначению морфемы (принцип Московской фонологической школы), а иногда другими принципами.
Как показывает анализ Л . Б . Парубченко , наибольшую сложность для пишущего пред ставляют позиции нейтрализации фонологи ческих оппозиций . В этом случае русская графика предоставляет пишущему возмож ность выбрать любую из букв , обозначаю щих одну из фонем , входящих в оппозицию , поскольку позиция нейтрализации не даст возможности читающему « прочитать » бук ву в соответствии с ее алфавитным значени ем ( ср . написания , реализующие звучание [ ч ’]: мячЬ / сверТчки / поруДчик / достич _ / научЫлся [2004. С . 22–24]. Норма , как пра вило , ограничивает этот выбор той из ней трализуемых фонем , которая может реали зоваться в данной морфеме в сильной , т . е . не допускающей нейтрализации позиции . Только для гиперфонемы в терминологии МФШ этот выбор задается произвольно . Для ненормативного же письма естествен ным ограничителем становится произноше ние , но его действие не тотально , что вообще свойственно некодифицированным формам языка .
Это значит , что на письме отражается архифонема Р . О . Якобсона и Н . С . Трубец кого , фонологическая единица , обобщаю щая признаки вступающих в оппозицию фонем . Пишущий , не ограниченный нор мой , выбирает любую из букв ( или буквосо четаний ), обозначающих возможные реали зации архифонемы .
Другим источником материала для сис темного понимания суперсегментной гра фики являются графические эксперименты в Интернете – так называемый « язык падон - ков » и « олбанский » язык .
Сознательные и невольные участники данного эксперимента , который в этом ка честве уже затухает , уступая место , по мо ему мнению , просто безыдейной безграмот ности , проверяли на прочность русское письмо . Их ненормативные написания в большинстве своем были обращены к тем зонам вариантности написаний , которые задавались потенциалом языковой системы . Рассмотрим знаменитое выражение многа букаф . Появление а в написании словофор мы букв вполне объяснимо развившейся в специфических условиях слоговостью эти мологически сонорного в , которая компен сируется дополнительной вокализацией . Еще проще объясняется не менее знамени тое афтар жжот ‘ автор жжет ’ и столь же популярное Превед ! ‘ Привет !’. Если в пер вом случае можно предположить , что для обозначения на письме архифонем использу ется фонетический принцип написания ( фо нема ЛФШ ), то во втором случае архифонема обозначается « гиперкорректно » – вопреки алфавитному значению букв ( фонема ЛФШ ) и реализации фонем МФШ в сильной пози ции , но в соответствии с составом архифо нем < и / е >, < т / д >.
Итак, термин орфография оказывается многозначным, причем второе его значение отражает нечто противоположное первому, нормативному – узус и системные отношения в буквосочетаниях. Эта двойственность, граничащая с энантиосемией, требует введения, пока в рабочем порядке, термина для системного и теоретического описания сочетаний и сочетаемости букв. Таким термином может стать аналог суперсегментной фонетики – суперсегментная граф ика. Применение этого термина позволит различить реальный потенциал буквоупотребле-ний и буквосочетаний и ограничения на реализацию этого потенциала, накладываемые орфографической нормой. Если это не будет сделано, лингвистика будет дезориентирована в отношении реальности буквосочетаний, графической формы морфем и слов.
WRITING AND SPELLING , GRAPHICS AND ORTHOGRAPHY:
THE BORDER BETWEEN SYSTEM AND NORM
The article is concerned to the relationship between language system (Russian term «graphics») and norms (orthography) in the Russian writing. Currently, the boundary between the system of «graphics» and the normal «orthography» is not between potential combinations of letters in the Russian written language and the norms as rules of spelling, and between the isolated sound or syllable reflection in the letter and morpheme writing. This results in two different understandings of the Russian term orthography (English spelling without the normative sense): on the one hand, it is understood as a set of spelling norms, but on the other hand – as a real practice of writing combinations of letters. The introduction of the concept of «supersegmental graphics» to refer to potential and naturally occurring combinations of letters will help to resolve this ambiguity.
Список литературы Письмо и правописание, графика и орфография: где проходит граница между системой и нормой
- Букчина Б. З. Правила русской орфографии и пунктуации (1956 г.) и орфографическая практика // Изв. АН СССР. Сер. лит и яз. 1974. Т. 33, № 1. С. 44-52.
- Иванова В. Ф. Современный русский язык. Графика и орфография: Учеб. пособие для пед. ин-тов. 2-е изд. М.: Просвещение, 1976. 288 с.
- Кузьмина С. М. Теория русской орфографии: русская орфография в ее отношении к фонетике и фонологии. М.: Наука, 1981. 265 с.
- Ненашева Л. В. Графические и орфографические особенности памятников русской письменности XV века. Архангельск: Поморский университет, 2010. 272 с.
- Парубченко Л. Б. Ненормативное русское письмо (лингвистический анализ ошибок в употреблении букв): Автореф. дис.… д-ра филол. наук. Омск, 2004. 66 с.