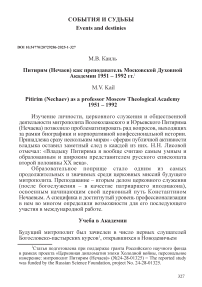Питирим (Нечаев) как преподаватель Московской духовной академии 1951–1992 гг.
Автор: Каиль М.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: События и судьбы
Статья в выпуске: 1 (83), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена реконструкции на основе материалов личного дела митрополита Питирима (Нечаева) в Архиве Московской духовной академии и персонального фонда владыки в научно исследовательском отделе рукописей РГБ (Ф.938) служебной и преподавательской деятельности в высшей духовной школе Москвы, выпускником и одним из первых профессорских стипендиатов которой (1951 г.) он являлся, а затем преподавал в Академии до начала 1992 г., пройдя путь профессионализации до доктора богословия, профессора. За это время будущий митрополит и многолетний председатель Издательского отдела Московской Патриархии нес в академии послушания инспектора, доцента, а затем профессора кафедры разбора западных исповеданий, совмещая преподавание со своими многочисленными общецерковными направлениями работы. Источники представляют его как самобытного и содержательного преподавателя, неравнодушного рецензента, преподавателя и исследователя, интересовавшегося историей МДА и совершенствованием ее академических практик в современности, внимательного портретиста своих современников. В статье раскрываются значимые биографические данные; содержатся репрезентативные материалы по истории высшей духовной школы РПЦ за более чем 40-летний период. Характерно, что служение в Академии породило обширный корпус не только формальных служебных источников (отчетов и рапортов, формуляров, докладных записок и пр.), но и характерных графических и визуальных источников от шаржей и зарисовок отца Константина - владыки Питирима до фотодокументов с его участием, отражающих элементы корпоративной культуры, значимые и бытовые события академической жизни второй половины ХХ в.
Питирим (нечаев), московская духовная академия, профессорский стипендиат, преподавание, духовная школа, государственно церковные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/149147712
IDR: 149147712 | DOI: 10.54770/20729286-2025-1-327
Текст научной статьи Питирим (Нечаев) как преподаватель Московской духовной академии 1951–1992 гг.
Pitirim (Nechaev) as a professor Moscow Theological Academy 1951 – 1992
Изучение личности, церковного служения и общественной деятельности митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева) позволило проблематизировать ряд вопросов, выходящих за рамки биографики и корпоративной конфессиональной истории. Принадлежа сразу нескольким мирам - сферам публичной активности владыка оставил заметный след в каждой из них. Н.Н. Лисовой отмечал: «Владыку Питирима я вообще считаю самым умным и образованным и широким представителем русского епископата второй половины ХХ века».
Образовательное поприще стало одним из самых продолжительных и значимых среди церковных миссий будущего митрополита. Преподавание – вторым делом церковного служения (после богослужения – в качестве патриаршего иподиакона), освоенным начинающим свой церковный путь Константином Нечаевым. А специфика и достигнутый уровень профессионализации в нем во многом определили возможности для его последующего участия в международной работе.
Учеба в Академии
Будущий митрополит был зачислен в число первых слушателей Богословско-пастырских курсов1, открывшихся в Новодевичьем монастыре. Курсы в 1946 г. были преобразованы в Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию (МДАиС), а Константин Нечаев стал одним из первых выпускников возрожденной семинарии и академии. В 1949 г. (по окончании курса семинарии выпускнику было доверено произнести Слово)2 он поступил в МДА3.
Учеба не была для Константина легким и беззаботным временем: в те годы отсев, контроль, внимание к обучающимся были исключительными. На первом курсе уже в октябре он столкнулся со взысканием по поводу, ныне кажущемся скорее проявлением благочестия: два дня подряд он отсутствовал в Академии, принимая участие в один из дней – в патриаршей службе, а в другой – в богослужении в своем приходском храме. Принципиальный подход преподавателей и администрации не делал из него «любимчика патриарха»: лишь к четвертому курсу не только поведение, но и его успеваемость была признана безупречной, а он считался «перворазрядным» студентом4.
В конце обучения фамилия Нечаева прочно заняла первое место в оценочных списках и приобрела исключительно хвалебные коннотации: «Совет постановил присвоить ученую степень кандидата богословия с правом представления работы на соискание ученой степени магистра богословия без дополнительных испытаний: Нечаеву Конст., Дулуману Е., Шиманскому Г., Петрову С., иерод. Голубцову С., иером. Рыбенкову С., Деревянко П. ученую степень кандидата богословия без представления такового права Буевскому Алексею.
Утвержденные характеристики на каждого из окончивших курс Академии представить в Управление делами Московской Патриархии и в Учебный Комитет при Св. Синоде с следующими рекомендациями: …Нечаева Константина – оставить профессорским стипендиатом при Академии»5.
Академию в Лавре святого Сергия студент Нечаев окончил 21 июня 1951 г. со степенью кандидата богословия. И с октября этого же года начался преподавательский стаж. На следующий год молодой преподаватель, пользующийся покровительством патриарха Алексия, был рукоположен в сан диакона. И без излишней спешки, только в 1954 г. – в сан священника целибатом. Ни личный архив владыки, ни даже доступная ныне переписка его с духовником (а смена духовнического наставления от отца Александра Воскресенского к старцу Севастиану Карагандинскому6, опекавшему молодого монаха, а затем архимандрита и епископа вплоть до своей кончины в 1966 г. – составляет все еще не освещенный вопрос) не позволяют в полноте осветить особенности его движения по духовному и иерархическому пути. Для приближенного патриарху молодого священника 5-летние паузы в получении новой степени объяснить довольно трудно и вероятно их причины кроются в духовных решениях самого молодого отца Константина, а возможно и в духовническом наставлении: без осмысленного внутреннего решения он не перепрыгивал ступеньки «духовной карьеры». Местом священнослужения отца диакона и священника вплоть до 1963 г. была Патриаршая домовая церковь7.
В 1959 г. отец Константин был пострижен в монашество и в том же году стал архимандритом. 9 июня 1959 г. был назначен инспектором Московской духовной академии и семинарии, оставаясь в этой должности до 5 июня 1963 г. В тот год жизнь архимандрита претерпела решительные изменения: 14 мая он был совместным постановлением Святейшего патриарха и Священного синода назначен председателем Издательского отдела Московской Патриархии, а 23 мая состоялась его епископская хиротония во епископа Волоколамского, патриаршего викария.
Доцентом архимандрит и епископ оставался до весны 1970 г., 15 апреля Совет МДАиС назначил епископа профессором. В ноябре 1985 г. к тому времени архиепископ Питирим был избран доктором богословия и продолжал преподавание в МДА до января 1992 г.8 40 лет Питирим оставался членом академической корпорации, запомнился многим поколениям как отечественных, так и зарубежных священнослужителей и иерархов ряда поместных православных церквей, проходивших обучение в московских духовных школах во второй половине ХХ в.
Личные записи владыки Питирима зафиксировали характеристики, находившихся в его ведении и попечении студентов десятилетий его преподавательского и инспекторского служения в Академии. Среди них и всероссийский старец Наум (Байбородин, 1927-2017) и несколько глав ОВЦС и патриарших экзархов, таких как митрополит Филарет (Вахромеев, 1935-2021) и Филарет (Денисенко) (р.1929), многолетний представитель Антиохийского престола в Москве митрополит Нифонт (Сайкали) (р.1941) и многие-многие другие. О многих из них он оставил краткие характеристики и зарисовки, характеризующие как их автора, так и упоминаемых.
Профессорский стипендиат
Самостоятельное и ответственное служение началось у выпускника Академии Константина Нечаева осенью 1951 г. – он стал одним из первых профессорских стипендиатов возрожденной Академии – был оставлен для подготовки к преподаванию как один из лучших выпускников и очевидно по рекомендации и содействии патриарха Алексия. Разумеется, положение патриаршего иподиакона сильно выделяло его еще в годы студенчества. Так, в конце октября 1946 г. (спустя несколько дней после начала полноценного обучения в качестве студента) он обратился к инспектору МДА с прошением «в связи с тем, что состою иподиаконом при Святейшем Патриархе… не посещать богослужения в Академическом храме». Прошение получило довольно строгую резолюцию: «Разрешено в дни служения Святейшего Патриарха»9: оно не позволяет видеть в молодом студенте баловня, не подчиненного академическим порядкам.
Тем не менее, успехи в учебе молодого академиста были очевидны: он участвовал в научно-творческой работе, оформлял поздравительные и памятные альбомы, с другом А. Остаповым инициировал работы по организации церковно-археологического кабинета – эти активности не были формальными, а свидетельствовали о живости натуры, любознательности и созидательной активности. Потому оставление в качестве профессорского стипендиата выглядело органичным продолжением пути молодого церковного юноши. Статус профессорского стипендиата давал не только столь необходимый в советских реалиях формальный статус (и возможность получать от Академии необходимые «отношения» для работы в Ленинской и Исторической библиотеках – соответствующие заверенные ректором прошения отложились в личном деле владыки). Важной была и финансовая составляющая: стипендиат получал от учебного комитета заработную плату (именно так, помимо стипендии) в солидном размере, варьировавшемся от 1500 до 2500 руб.10
Путь к стипендиатству был должным образом обставлен: еще в апреле 1951 г. выпускник обратился к ректору Академии проф. В.С. Вертоградову с аргументированным заявлением, в котором отмечал: «сообщаю, что моим желанием было бы остаться в вверенной Вам Академии. В Академию я поступил со стремлением получить высшее богословское образование и отдать свои силы богословской науке и воспитанию кадров Церковных деятелей… Не предрешая, конечно, воли Руководства Академии в избрании моей будущей должности в случае удовлетворения моего желания, я просил бы дать мне возможность подготовки к преподавательству в условиях профессорского стипендиата, так как избранный мной предмет (патристика) требует особо глубокого и тщательного изучения»11.
С первого года профессорский стипендиат получил преподавательскую «нагрузку» и в качестве таковой в 1951/1952 учебном году впервые прочел курс «Истории и разбора западных исповеданий» на 3 курсе Академии и «Сравнительное богословие»
на 4 курсе семинарии12. Эти дисциплины с небольшими модернизациями станут основной преподавательской и научной профессиональной работы на многие годы вперед.
Священник Александр Ветелев, назначенный решением Совета Академии руководителем научной работы профессорского стипендиата, сформулировал осенью 1951 г. первый план «стипенди-атской работы Нечаева К.В. на 1951/52 уч. год». План включал три смысловых раздела: 1) «чтение подлинных творений отцов и учителей Церкви с кратким отчетом о прочитанном», включая «Пять слов о богословии» св. Григория Богослова, «Точное изложение православной веры» И. Дамаскина; 2) «знакомство с патрологической библиографией»: «каталогизация русской православной богословской литературы (монографий и статей в богословских журналах) по патрологии с воззваниями отцов и учителей Восточной и Западной церквей, литературы по истории и разбору западных исповеданий» и 3) «работа над монографическими исследованиями отцов и учителей Восточной и Западной церкви» профессоров Катанского и А.Гусева13.
В октябре прошли две пробные лекции Константина в Академии на темы «Предшественник реформации Ян Гус» и «Анализ ри-мо-католического учения о первородном грехе» (обе были признаны удовлетворительными – иной оценки не предполагалось).
Работа с профессорским стипендиатом была постоянной и неформальной: если научным его становлением руководил проф. А.А. Ветелев, еще двумя кураторами-руководителями были назначены проф.прот. С.В. Савинский и ректор В.С. Вертоградов14.
В январе 1952 г. ректор К. Ружицкий ходатайствовал перед патриархом о рукоположении Константина в сан диакона, оно состоялось на Сретение 1952 г.
Из-за большой преподавательской работы в первый год работы о.Константина его стипендиатский отчет был перенесен на лето 1953 г. По отзыву руководителя стипендиата А.А. Ветелева, «сти-пендиатская работа К.В. Нечаева протекала по 2-м направлениям: 1/ по ознакомлению и изложению предложенных ему святоотеческих творений и богословских трудов и 2/ по библиографии богословской литературы, относящейся к патрологии III-IV вв.и западных исповеданий», «наш автор удовлетворительно справился с задачей, изложив в основных чертах учение святителя преимущественно его же словами… следует отметить, что учение св. И. Дамаскина и Св.Духе и его формула об исхождении Св.Духа от Отца через Сына вызвало особый интерес у К.В. Нечаева и расположило его искать разъяснения этой формулы в богословской литературе… Совсем особую работу представил К.В. Нечаев по второму заданию. Ему предложено было составить каталог богословско-исторической литературы по Западным исповеданиям и патрологии III-V вв. Это задание он не только выполнил, но и перевыполнил. Ему удалось собрать в свой каталог наименование русских духовных журналов, изданных до 1917 года /таковых оказалось 207/, епархиальных ведомостей /68/, литературы, монографий и статей, по сектантству и западным исповеданиям /1512/ и патрологии /282/, всего, таким образом 2069 названий».
Профессор заключал: «Стипендиатский отчет диакона К.В. Нечаева показывает, что он сделал значительный шаг вперед в своей научно-богословской работе по сравнению с тем уровнем, на котором он стоял в кандидатском сочинении. Этот шаг – обнадеживающий шаг. Он показывает, что наш молодой ученый может продуктивно работать в научно-богословской области»15.
Приводимые физические характеристики подготовленной библиографии свидетельствуют о том, что научная работа не была для него рутиной или тяжким обременением: пытливость и стремление к получению максимального результата – заметные характеристики его академической работы в пору профессионального становления.
Работа шла успешно и в отложившихся в архиве владыки стипендиатских отчетах мы можем видеть явное перевыполнение первоначально определенного ему священноначалием плана. Со стороны же Академии он получал необходимую поддержку и обеспечение, в частности, все причитающиеся выплаты преподавателя – за читаемые в академии курсы и классное руководство в семинарии, а также стипендию: такое материальное содержание обеспечивало не только достойную жизнь, но и возможность поддерживать престарелую матушку и сестер, с которыми отец Константин проживал в московской квартире по ул. Чаплыгина 1-а.16
Важным формирующим фактором было окружение. В его выпуске из МДА учились тогда иеродиакон – будущий архиепископ Сергий Голубцов (1906-1982), Алексей Буевский (1920-2009), начинавшие по выходу из стен академии большой путь церковного слу-жения17, а впоследствии ставшие выдающимися церковными деятелями второй половины ХХ в.
Начинающий преподаватель
Молодой преподаватель отец Константин Нечаев проявлял инициативы на разных поприщах. Действуя самостоятельно, и часто в союзе с другом и соратником отцом Алексеем Остаповым. Примеров таких начинаний источники сохранили немало. Воссоздание церковно-археологического музея Академии стало одной из ярких инициатив четверокурсника К.Нечаева и второкурсника А. Остапова, проделавших первые работы в 1948/49 учебном году18. Студент Нечаев получал тогда средства под отчет для оформления комнаты-музея и нес полную ответственность за результат19.
Открытый в 1950 г. кабинет стал важным музейно-экспозиционным центром и олицетворял воссоздание Академии в научной составляющей и как сокровищницы святынь20.
Преподавательская нагрузка оставалась относительно стабильной в первые годы работы и состояла из трех ключевых предметов в часах недельной нагрузки: Истории и разбора западных исповеданий (4 часа); сравнительного богословия (2 часа) и общей церковной истории (8 часов). Кроме того, в течение нескольких лет отец Константин оставался классным руководителем для 3 класса семинарии.
Случались и незапланированные обстоятельства, сильно менявшие объем нагрузки и уклад. Профессорский стипендиат М.П. Орлов, попав под трамвай и лишившись стопы, был вынужден оставить преподавание, а его курс гомилетики в семинарии замещал о. Константин. В конце 1953 г. И.Н. Миловидов перешел на работу в ОВЦС и его преподавательская нагрузка и классное руководство еще и 1 классом перешло о. Константину.
При этом в плотном учебном (и наверняка богослужебном) графике о. Константина всегда оставалось место для общения с окружающими, дружеских мероприятий, творчества. В эти годы он часто адресовал свои поэтические опусы коллегам и близким, участвовал в составлении поздравительных журналов, а с 1955 г. был вовлечен еще и в международную работу. Летом 1956 г. он выступал с серьезным докладом на собеседованиях с англиканами, и приглашался через канцелярию Академию в Отдел внешних церковных сношений для обсуждения этой миссии21. А в октябре был включен в официальную церковную делегацию, принявшую участие в торжествах в Румынии.
Сохранился яркий рукописный альбом, подготовленный группой молодых преподавателей Академии к Пасхе 1954 г. как приношение-поздравление патриарху Алексию. В 60-страничном альбоме до четверти материалов, в том числе стихотворных, относилось к авторству о.Константина.
Уже в 1950-е гг. вскоре возглавленный им «Журнал Московской Патриархии» оставил немало свидетельств о самых разных направлениях активности молодого пастыря. Первым из упоминаний стало сообщение об окончании Московской духовной семинарии в 1947 г. и в качестве патриаршего иподиакона. А к осени 1955 г. молодой священник уже в числе представителей церкви на приеме в Верхов- ном Совете СССР, с 1956 г. – в составе зарубежных церковных де-легаций22.
В начале 1956 г. отец Константин направил священноначалию записку «Предложение о хранении св. мощей в Серапионовой палатке Троице-Сергиевой лавры»23. Тогда речь шла о переданных патриархом Алексием мощах святых, разбор которых был доверен патриархом близкому молодому священнику: эти аннотированные фрагменты мощей требовалось должным образом расположить в специально созданном мощевике24.
На основе строгих принципов и в осознании ценности знания строилась работа молодого преподавателя со студентами. В 1950-е гг. отец Константин дает отзывы о курсовых сочинениях и зачетных работах обучающихся. Эти письменные отзывы носят столь принципиальный и неизменно критический характер, что не оставляют сомнения в строгости преподавателя. Так, отзываясь на курсовое сочинение одного из немногих обучающихся в монашеском сане – иеромонаха Серафима (Третьякова) отец Константин отмечает, что «по своему характеру эта работа представляет собой добросовестную компиляцию и не может претендовать на оригинальность или всеобъемлющую систематизацию», отмечает нарушения в структуре, «странные и неестественные трактовки» и отмечает лишь «удовлетворительное» решение задачи работы25 и лишь в финале смягчается до оценки «4+». Характерно, что и отзывы на работы коллег по корпорации столь же содержательно критичны и обстоятельны: летом 1957 г. отец Константин готовит пространный отзыв на курс «Обличительное богословие» Е.Н. Успенского, оставляя массу остро критичных замечаний, свидетельств о неверных трактовках и т.п. 26
Год от года росла нагрузка молодого преподавателя: в 1956/57 учебном году отец Константин «подхватил» занятия по Новому завету ушедшего с инспекторской должности профессора Н.П. Докту-сова, руководил тремя курсовыми работами по западным исповеданиями и Новому Завету27.
Инспектор К.Нечаев – архимандрит Питирим
Активность и рост авторитета привели к логичному решению священноначалия. 25 марта 1959 г. о. Константин подал ректору Академии прот. К. Ружицкому прошение о пострижении в монашество, которое на следующий день было направлено на решение патриарху. 13 апреля пострижение было совершено наместником Лавры архимандритом Пименом (Хмелевским). А уже 27 мая состоялось патриаршее решение о назначении иеромонаха Питирима «исполняющим дела Инспектора МДАиС»28.
Лето 1959 г. начинающий инспектор потратил на обустройство дел. По сути он сформировал всю нормативную базу (вероятно, не существовавшую в академии до его вступления в должность), регламентирующую как работу самого инспектора, так и всех сотрудников инспекторского блока.
Отец Питирим подготовил «Положение о работе членов инспекции Московской духовной академии и семинарии»29, подробно регламентирующее обязанности и распорядок в работе инспектора, его старшего помощника и трех сменных дежурных помощников. Обязанности самого инспектора и его штата были самыми разнообразными: подготовка расписания, ведение графика, контроль за всеми сторонами обучения, режима и быта обучающихся, определение их на церковные послушания и даже распределение по спальням (согласно характерам, привычкам и поведению) – все это было предметом занятий инспектора.
В условиях отсутствия печатных материалов и даже элементарных церковных календарей, приходилось в буквальном смысле отрисовывать как ежегодный церковный календарь, отражающий посты и праздники, так и график учебного процесса. Даже каникулярное время было напряженным для инспекторской части, поскольку обучающихся нужно было распределить на послушания, перевозить на патриаршие службы в Богоявленский собор и наделять карманными и путевыми средствами30.
Вторая по статусу должность в академической иерархии налагала на 33-летнего иеромонаха большую ответственность и сопровождалась многими проблемными ситуациями. Так, в начале ноября 1959 г. возник конфликт с третьекурсником К.П. Швецом, который обвинил молодого инспектора в «преследованиях». В реальности молодой священник активно устраивал свою жизнь, ища места в московском приходе. Призывы инспектора к дисциплине и необходимости сосредоточится на учебе вызвали скандал с обращением студента к управделами патриархии протопресвитеру Н. Колчицкому. Активный студент (уроженец Западной Украины, к тому же старше своего инспектора по возрасту, по слухам еще и сожительствовавший в Москве с женщиной) решил одолеть слишком требовательного инспектора. Разбирательство вышло долгим и наверняка тяжелым для молодого иеромонаха Питирима31.
По обстоятельствам времени инспектор должен был быть еще и политически грамотным: он вел коммуникацию с контролирующими органами, организовывал патриотическую работу и комплекс мероприятий по формированию гражданственности обучающихся: ключевыми праздниками и выходными днями, на- полненными соответствующими активностями, для семинаристов и студентов академии был первомай и годовщина октября32.
И все же в серьезном и ответственном служении было место юмору и самоиронии: в диалоге с кем-то из преподавательской корпорации инспектор набросал на листе бумаги коллаж, метко озаглавив его «Опровержение», зарисовав в 7 сюжетных набросках рабочий день инспектора33.
Подводя итоги 1962/1963 учебного года, уже ставший епископом доцент вел 8 часов занятий в неделю по 3 предметам, а также читал курс, посвященный протестантизму в аспирантуре при МДА, рецензировал курсовые сочинения и выступал автором и редактором в нескольких международных изданиях34.
Профессор
Профессорский период стал самым длительным в академической карьере владыки Питирима. Но в этот период Академия, по-прежнему занимая заметное место в жизни, все же отходит на второй план, уступая попечению об Издательском отделе и обширной международной работе.
Будучи занят на многих поприщах, в Лавре владыка не служил и с момента епископской хиротонии оставался для корпорации прежде всего преподавателем – профессором, чей церковный статус со временем возрастал. В 1981 г. состоялось снижение нагрузки владыки на 4 ч. В неделю, хотя в 1970-е гг. в связи со служебной необходимостью нагрузка порою и возрастала.
Материалы личного дела владыки свидетельствуют, что Академия в 1963-1992 гг. оставалась важной частью его жизни. В ключевых ее событиях он получал слова и поздравления и сочувствия и утешения. Личное дело хранит и соболезнования академии по случаю ухода из жизни сестер владыки, Александры, Марии и Надежды и конечно поздравительные телеграммы и благопожелания выздоровления в случае нездоровья и невозможности быть на заня-тиях35. Сразу по избрании епископом, Питирим направил рапорт с просьбой о возможности оставления за ним права преподавания в Академии и получил согласие патриарха на это. Оставался в должности доцента до 15 апреля 1970 г., когда Совет академии присвоил профессорское звание, дополнив его в декабре 1985 г. еще и степенью доктора богословия.
В 1970-е гг. владыка стал много времени проводить в зарубежных поездках, что вызывало подвижки в расписании и даже отступления от норм работы члена академического Совета: так, в марте 1972 г. владыка направлял «голос в запечатанном конверте», пода- ваемый им при баллотировке на магистерскую степень одного из преподавателей36.
Отчитываясь перед Советом Академии за 1978/1979 учебный год, архиепископ Питирим подводя итоги года, скрупулезно характеризовал все проведенные работы – преподавание в 4 классе семинарии курса сравнительного богословия и на 2 курсе академии – «Историко-текстологического введения в Священное Писание Нового Завета», на 3 курсе он продолжал введение в четвероевангелие и читал экзегетический курс синоптических евангелий. Помимо преподавания владыка-профессор составил обстоятельную рецензию на представленный прот. Р. Лозинским на докторскую степень труд. Многолетним трудом большинства преподавателей была работа над учебниками (готовившимися в машинописи и впоследствии доступными студентам в таком виде в академической библиотеке).
Но самое обстоятельное отражение (объем и подробность его представления в отчете значимы и с психологической точки зрения – как явное номинирование наиболее значимой составляющей в череде церковных послушаний владыки) имеет перечисление совершенных международных миссий: « я выезжал за границу в служебные командировки: в июне 1978 г. в Женеву, Швейцария, на заседание Ядерной группы Комитета Коммуникаций Всемирного Совета Церквей, и в Лондон, Англия, на Ассамблею Европейского Отделения Всемирной Ассоциации Христианских Коммуникаций. В октябре 1978 года на заседание Руководящего комитета Всемирной Ассоциации Христианских Коммуникаций в Париж, Франция, в феврале 1979 г. в Женеву, Швейцария, на заседание Всеправославной комиссии по диалогу с Нехалкидонскими Церквами, в марте 1979 г. возглавлял делегацию представителей Церквей в СССВ в Данию по приглашению Общества «Дания-СССР», в апреле 1979 г. в Цюрих, Швейцария, на заседание Исполнительного комитета Экуменического центра по информации в Европе, в мае 1979 г. в Стокгольм, Швеция, на VIМеждународную неделю церковных телефильмов, в июне 1979 г. в Лондон, Англия, по приглашению Общества дружбы «Великобритания-СССР», в июле 1979 г. в Гринвич – Нью-Йорк, США, на заседание Комитета Коммуникаций Всемирного Совета Церквей. Во время поездок я выступал с докладами и лекциями в церковных и общественных собраниях, совершал богослужения, имел широкие контакты с иерархами и прихожанам Московского Патриархата и других юрисдикций и прессой »37.
В 1980-е гг. это направление в работе будет только возрастать, достигнув пика, когда владыка пребывал в продолжительных турне-поездках, состоявших из цепочки событий: встреч, открытия книжных и фотовыставок, выступлений церковных хоров и пере- говоров с полиграфическими концернами38. Сочетать эти поездки с преподаванием было явно сложно.
Работа владыки в Академии завершилась довольно неожиданно и до сих пор не вполне ясны обстоятельства появления распоряжения от 29 января 1992 г. с формулировкой «освободить от работы в Московских духовных школах лиц, достигших пенсионного возраста, с последующим назначением им пенсии по возрасту». В число 8 таких лиц помимо митрополита попал протопресвитер Виталий Боровой и рядовые преподаватели, а в качестве основания значилась «резолюция святейшего патриарха от 28 января 1992 г.»39. Вероятно, имело место формальное решение, обусловленное еще и кризисными условиями начала 1990-х гг.
Тяга к преподаванию владыки была сильна, и он, после перерыва, осенью 2001 г. вернулся в родные пенаты – МИИТ, где под его руководством создали первую для технического вуза теологическую кафедру с миссией общекультурного развития и формирования, на которой владыка преподавал последние два года жизни.
***
В церковном служении митрополита Питирима (Нечаева) Московская духовная академия заняла особое место. Связанный с возрожденной духовной школой на протяжении полувека, как гуманитарно-развитая личность и ученый-богослов он сформировался в академии и благодаря ее возможностям: ведь в советском социуме 1950-х гг. взять в руки богословскую литературу можно было, лишь имея соответствующее письмо направляющей организации. Совершенно очевидно, что учеба в Академии и закрепление профессорским стипендиатом стало фактором необходимой профессионализации будущего архипастыря, харизматичного руководителя Издательского отдела патриархии Питирима (Нечаева), а вхождение в преподавательскую корпорацию обеспечило необходимые формальные ученые позиции для международной богословской коммуникации владыки. Сложившееся понимание и неизменная поддержка многолетнего ректора Академии протоиерея Константина Ружицкого (1888-1964)40, возглавлявшего духовную школу весь период от стипендиатства до епископства Питирима, обеспечило вхождение в корпорацию и укоренение в ней. Академические будни и праздники, встречи и портреты учителей и коллег составляют значимую часть документального наследия митрополита Питирима, отражая историю духовной школы второй половины ХХ в.