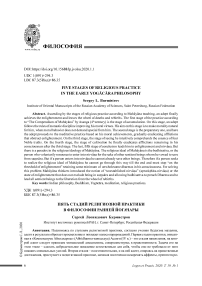Пять стадий религиозной практики в философии ранней йогачары
Автор: Бурмистров Сергей Леонидович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Поднимаясь по ступеням религиозной практики, согласно учению буддизма махаяны, адепт в результате обретает просветление и покидает колесо перерождений. Первая стадия практики, описанная в «Компендиуме Абхидхармы» (Abhidharma-samuccaya) Асанги (IV в.) - это стадия накопления, на которой адепт следует правилам монашеской дисциплины, совершенствуясь в нравственности. Задача его на этом этапе - сделать добродетельное поведение естественным для себя, чтобы оно не требовало от него никаких специальных усилий. Вторая стадия - подготовительная, и на ней адепт, опираясь на нравственные достижения, приступает к медитативной практике, начиная постепенно искоренять аффекты, препятствующие просветлению. На третьей стадии - стадии видения - он обретает интуитивное постижение четырех Благородных истин. На четвертой стадии - пути культивирования - он окончательно искореняет аффекты, еще остающиеся в сознании после третьего этапа. Последняя, завершающая стадия приводит его к окончательному просветлению и нирване. Парадокс махаянской религиозной идеологии, однако, состоит в том, что тот, кто погрузился в нирвану, уже не имеет возможности спасать живые существа из сансары, религиозным же идеалом махаяны является бодхисаттва - человек, добровольно отказавшийся от нирваны ради спасения других. В связи с этим тот, кто стремится к реализации религиозного идеала махаяны, не может пройти вышеописанный путь до конца и должен остановиться «на пороге нирваны», сохраняя в своем сознании некоторый минимум неблагих дхарм. Для разрешения этого парадокса в религиозную доктрину махаяны было введено понятие «неокончательной нирваны» (apratiita-nirvвa) - состояния просветления, не исключающего при этом пребывание в сансаре и позволяющего бодхисаттве проповедовать Дхарму и вести живые существа к освобождению из колеса перерождений.
Индийская философия, буддизм, йогачара, медитация, религиозные практики
Короткий адрес: https://sciup.org/149131906
IDR: 149131906 | УДК: 1(091)+294.3 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2020.1.1
Текст научной статьи Пять стадий религиозной практики в философии ранней йогачары
DOI:
Четвертая Благородная истина, или истина пути прекращения страдания (санскр. du hkha-nirodha-mārga-satya) – вершина буддийского учения, к которой подводят первые три истины (страдания, причины страдания и прекращение страдания). В палийских текстах путь прекращения страдания состоит, как известно, из восьми звеньев, распределенных по трем группам. К первой из них, группе мудрости (пали paññā), относятся совершенные воззрения (пали sammā ditthi) и совершенная решимость (пали sammā samkappa). Как разъясняет современный буддийский мыслитель Анагарика Говинда, «совершенный» (пали sammā, санскр. samyak) означает в данном случае полноту, всеохватность качества, так что «совершенные воззрения» предполагают полноту видения вещей, включая и признание существования страдания, и в то же время отказ от примысливания к этому факту чего-либо иного – например, каких-либо оправданий страдания [Лама Анагарика Говинда 1993, 66–67]. Заметим, что страдание понимается здесь как несомненное свойство реальности, подлежащее устранению, и на него невозможно закрывать глаза, интерпретируя его как недостаток блага или как-либо иначе, ибо любые оправдания его ведут только к его продолжению и усугублению. «Совершенная решимость» требует полного осознания человеком своих действий, слов и мыслей, что выводит нас ко второй группе звеньев, касающейся норм буддийской добродетели (пали, санскр. śīla) – совершенным речи, действию и образу жизни (пали sammā vācā, kammanta, ājivā), которые предполагают отказ от лжи, клеветы, грубых речей, празднословия; от причинения вреда живому, присвоения чужого, по- ловой распущенности; от любых занятий, которые могут причинить вред живому существу (торговля оружием, мясом, алкоголем, гадания, ростовщичество и т. п.) [Лама Ана-гарика Говинда 1993, 67–68]. Третья же группа охватывает качества, касающиеся психотехнических практик: совершенные усилие, памятование и сосредоточение (пали sammā vāyāma, sati, samādhi). Совершенное усилие направлено на устранение уже возникшего зла, предотвращение еще не возникшего, способствование появлению еще не возникшего блага и пестование уже возникшего; совершенное памятование или, правильнее, совершенная собранность разума требует постоянного осознания всего, что происходит с телом и психикой; наконец, совершенное сосредоточение – это собственно психотехника, в ходе которой все перечисленные благие качества достигают полного совершенства [Лама Ана-гарика Говинда 1993, 68–69]. Ранние буддийские трактаты, в отличие от более поздних текстов (например, трактатов мадхьямаки), не отрицают существование страдания и не стирают границу между страданием и счастьем как всего лишь двумя равно иллюзорными состояниями – напротив, страдание для ранних буддийских мыслителей реально и должно быть преодолено. Но корень страдания – понятие я, ради которого человек делает все, но которое само по себе иллюзорно, и мудрость (санскр. prajñā, пали paññā) состоят в устранении этого ложного понятия из сознания и даже из бессознательных наших мотивов и предрасположенностей [Рудой 1994, 32].
В махаянской школе мадхьямака любые противоположности, включая страдание и счастье, понимались как иллюзорные, как резуль- тат конструирующей деятельности непросветленного сознания, подлежащий устранению. Истинная реальность свободна от всякой двойственности и может быть познана только тем, кто преодолел естественную для сансаричес-кого сознания предрасположенность к дуалистическому мышлению. Основатель мадхья-маки Нагарджуна (I–II вв.) доказывал логическую противоречивость самого понятия страдания, а значит, и его пустоту, отсутствие у него референта в реальности [Vaidya (ed.) 1960, 100–101]. В связи с этим и освобождение от страдания понималось как освобождение от иллюзии страдания, истина же пути интерпретировалась как множество методов преодоления этой иллюзии.
В йогачаре путь (mārga), ведущий к просветлению, понимался несколько иначе. В трактате «Компендиум Абхидхармы» (Abhidharma-samuccaya, далее – АС), составленном в IV в. Асангой, одним из основателей этой школы, истина пути прекращения страдания определяется так: это то, «посредством чего [человек] осознает страдание, пресекает возникновение [страдания], осуществляет прекращение [страдания] и следует по пути, [ведущему к прекращению страдания]» [Asanga 1950, 65], причем осуществление здесь понимается как нечто очевидное, несомненно данное не только мысли, но и прямому восприятию (sāks ātkгti).
У истины пути есть ряд особенностей, которые более подробно освещаются в другом классическом философском труде – «Энциклопедии Абхидхармы» (Abhidharmakośa, далее – АК) Васубандху (IV в.) и комментарии к нему (Abhidharmakośa-bhās ya, далее – АКБ). Уже в первых строках его сказано, что истина пути, в отличие от других дхарм, свободна от притока аффектов [Васубандху 1998, 194–195], которые, собственно, и поддерживают неведение, и удерживают живое существо в колесе сансары. Помимо нее, свободны от притока аффектов только еще пространство эмпирического опыта (ākāśa) и два прекращения (nirodha) – посредством знания и без посредства такового. Как говорит сам Васубандху, аффекты не «прилипают» (samanuśerate) к этим дхармам [Васубандху 1998, 195], и это требует определенных пояснений. В непросветленном сознании, согласно трактатам Абхидхар- мы, имеется аффективная предрасположенность (anuśaya) к чувственному влечению, направленному на объекты сансарического мира или даже на само сансарическое существование как таковое (у богов мира не-форм – высшего из миров в буддийской космологии), причем сама по себе она несубстанциальна (adravyāntara), то есть не существует сама по себе, независимо от дхарм. Эта предрасположенность к чувственному влечению понимается как дремлющий или потенциальный аффект («семя», санскр. bīja), но при определенных условиях он может проявиться, что приводит к состоянию одержимости грехом или пороком (paryavasthāna), причем сама предрасположенность порождается прежними проявленными аффектами [Васубанд-ху 2006, 53]. Иначе говоря, если человек, например, постоянно испытывает аффект страсти к чему-то, пестует его и не дает ему угаснуть, то в дальнейших существованиях результат этого проявится как склонность к аффекту страсти, ибо такие действия человека создают более ярко выраженную предрасположенность к переживанию именно этого аффекта и всех порождаемых им чувств, мыслей и волитивных актов. Истина же пути прекращения страдания, если принять во внимание все сказанное, свободна от притока аффектов, а значит, и от предрасположенностей к ним, о чем и говорит Васубандху в первой книге «Энциклопедии Абхидхармы». Истина пути, пространство и два прекращения не порождают никаких аффективных предрасположенностей, и это избавляет их от притока аффектов и делает возможным обретение просветления с опорой на них.
Истина пути, согласно учению йогачары, состоит из нескольких этапов: путь накопления (sambhāra-mārga), подготовительный путь (prayoga-mārga), путь видения (darśana-mārga), путь культивирования (bhāvanā-mārga), путь завершения (nisthā-mārga). Первый из них – путь накопления – определяется у Асанги так: это «защита врат чувств и нравственность у простых людей, знание меры в пище, постоянное бодрствование в течение первой и последней половины ночи, культивирование энергии, успокоение и прозрение, состояние постоянной осознанности. Благо, достигаемое другими практиками, – [это] мудрость, порожда- емая слушанием (śrutamayī prajñā); мудрость, порождаемая размышлением (cintāmayī prajñā); мудрость, порождаемая культивированием (bhāvanāmayī prajñā). Посредством этого культивирования обретается способность воспринять интуитивное постижение и освобождение» [Asanga 1950, 65]. Из этих трех видов мудрости первый – это мудрость, достигаемая благодаря слушанию наставлений; второй – мудрость, достигаемая рациональным анализом буддийских истин; третий – мудрость, обретаемая благодаря медитации и пестованию в себе благих качеств. Сфера первой – слово или имя предмета; сфера второй – и слово, и сам обозначаемый им предмет; сфера третьей – только сам предмет, и здесь сознание уже имеет дело только с ним, не обращая внимание на его названия [Васубандху 2006, 352].
Все это, естественно, требует определенных пояснений. В комментарии к «Компендиуму Абхидхармы» (Abhidharma-samuccaya-bhās ya, далее – АСБ), составленном, как считается, Стхирамати в VIII в.1, путь накопления связывается прежде всего с моральными требованиями (śīla), хотя не меньшее значение имеют и другие элементы Восьмеричного пути, причем все практики, из которых состоит путь накопления, имеют своей целью видение истины (естественно, имеются в виду четыре Благородные истины) и преодоление препятствий на этом пути [Tatia (ed.) 1976, 76]. Сам термин «накопление» (sam bhāra) используется в АК и АКБ в таких, например, контекстах: «Подобным носорогу становится тот, кто на протяжении ста великих кальп практикуется в реализации условий обретения Просветления» [Васубандху 2001, 282; Vasubandhu 1967, 183], где словами «условия обретения Просветления» и переведено санскр. sambhāra. В примечании к этому фрагменту переводчики указывают, что, согласно Яшомитре, к этим условиям относятся соответствующее поведение (śīla), мудрость (prajñā), понимаемая как различение дхарм, и психотехнические практики (samādhi) [Васубандху 2001, 352]. В другом контексте этот термин переводится как «опора»: в IV книге АК говорится о неблагом, ощущаемом как страдание, комментарий же гласит, что плод такого действия – не только собственно чувствование (vedanā), но и его опора (sambhāra), под которой, согласно Яшо-митре, понимаются органы чувств, их объекты и собственно «личность» как условный конструкт, как бы «надстраиваемый» над потоком дхарм [Васубандху 2001, 556, 673]. Иными словами, на пути накопления адепт только подготавливает дальнейшее движение к просветлению, формируя новые психологические установки, которые позволят ему впоследствии приступить к более глубокой психотехнической практике. Немаловажное значение имеет здесь соблюдение дисциплинарных предписаний, способствующих формированию поведенческих диспозиций, не всегда вполне осознаваемых индивидом, но ведущих его (в данном случае) по буддийскому пути.
Завершив этот этап, адепт переходит ко второму – подготовительному пути (prayoga-mārga), или, как еще можно перевести этот санскритский термин, пути практики, на котором психотехника начинает давать свои плоды. Обретенные на первом этапе поведенческие и мыслительные диспозиции, определяющие теперь не только сознательные действия человека, но и более глубокие слои его психики, становятся основой для дальнейшего движения, характеризующегося, в частности, интуитивным ви´дением буддийских истин.
Очевидно (уже из самого названия этапа), что на нем адепт, обретя базовые знания буддийского учения и укрепившись в вере, еще не может приступить к практике, выводящей непосредственно к просветлению, но здесь интуитивное постижение (abhisamaya) истинности буддийского учения – постижение дологическое, суть которого лишь потом становится объектом рационального анализа и понимания, – играет существенную роль. Асан-га определяет этот этап так:
«Что такое подготовительный путь? Что справедливо для пути накопления, то справедливо и для подготовительного пути, но то, что справедливо для подготовительного пути, не обязательно справедливо для пути накопления. Накопленные на пути подготовки и ведущие к проникновению корни благого – [это] “подъем внутреннего жара”, “достижение вершины”, соответствие истине и высшая мирская добродетель.
Что такое “подъем внутреннего жара”? Непосредственно-личное сосредоточение на [четырех благородных] истинах, полученное посредством видения, и соединение с мудростью.
Что такое “достижение вершины”? Непосредственно-личное сосредоточение на [четырех благородных] истинах, выпестованное посредством видения, и соединение с мудростью.
Что такое соответствие истине? Непосредственно-личное сосредоточение на [четырех благородных] истинах, достигнутое частичным погружением, и соединение с мудростью.
Что такое высшая мирская добродетель? Непосредственно-личное непрерывное сосредоточение ума на [четырех благородных] истинах и соединение с мудростью» [Asanga 1950, 65] (курсив мой. – С. Б. ).
Как видим, подготовительный этап еще не отличается принципиально от этапа накопления, однако в его составе присутствуют элементы, невозможные ранее – «подъем внутреннего жара» (usmagata) и другие. АКБ (5.61) гласит, что подготовительный путь – это противоядие, вызывающее отвращение (vidūsanā-pratipakso du khasamudayālambanah prayogamārgah) [Васубандху 2006, 101 ; Vasubandhu 1967, 320]. Под «противоядием» понимается здесь все то, что препятствует проявлению аффектов и/или устраняет уже возникшие аффекты – или, иными словами, подавляет прорастание «семян» (bīja) аффектов, не позволяет реализоваться аффективным предрасположенностям и уничтожает активные аффекты (kleśa). Отвращение это направлено против всего, что было ошибочным (sub specie буддийской догматики) в помыслах, словах и делах адепта до его вступления на путь к нирване [Dhammajoti 2009, 355]. На первый взгляд, отвращение (vidūsanā) – это такая же страсть, как и любые другие, приковывающие человека к сансарическому миру, но в действительности это страсть, направленная парадоксальным образом против других страстей, против влечения ко всему мирскому, не вызывающему теперь ничего, кроме отвращения. Естественно, в ходе дальнейшей практики она тоже должна быть устранена, но пока она остается важным инструментом преодоления аффектов и аффективных предрасположенностей.
Четыре корня благого, о которых говорит текст АС, состоят в непосредственно-личном (pratyātmam) медитативном сосредоточении на четырех Благородных истинах, то есть сосредоточении, охватывающем всю личность адепта, так что результат его понимается человеком не как нечто абстрактное, а как относящееся непосредственно к нему самому. Следует также обратить внимание на выделенные курсивом слова в вышеприведенной цитате. Медитативное сосредоточение в первом случае получено посредством видения (ālokalabdha), во втором – выпестовано или выращено (ālokavrddha), и, согласно АСБ, это означает, что «подъем внутреннего жара» возникает тогда, когда достигается прекращение (śamatha) непрерывной (в сознании обычного человека, еще не ступившего на буддийский путь) внутренней речи и адепт обретает возможность созерцать деятельность собственного сознания такой, какова она есть (vipaśyanā), а «достижение вершины» – когда адепт полностью постигает суть всего, что было постигнуто им на предыдущей стадии [Tatia (ed.) 1976, 76].
Путь видения (darśana-mārga) – следующая стадия практики, на которой, согласно АК и АКБ, последователь Будды обретает интуитивное видение четырех Благородных истин [Васубандху 1998, 436]. Как отмечают переводчики трактата, такое интуитивное постижение (abhisamaya) – это полнота мудрости, различающей дхармы и свободной от притока аффектов и ложных воззрений, обусловливаемых аффектами и, в свою очередь, поддерживающих их, объектом же ее на данном этапе выступают восемь аспектов принятия четырех Благородных истин и восемь аспектов дхармического знания [Васубандху 1998, 558]. Этот путь может быть только сверхмирским, ибо он противоположен трем сферам существования (мирам чувственному, форм и не-форм) и уничтожает аффекты, которые не могут быть устранены на мирском пути [Васубандху 2006, 342]. Сам Асанга определяет этот путь так: это «невоспринимаемое сосредоточение, [возникающее] сразу вслед за [достижением] высшей мирской добродетели, и соединение с мудростью. Оно подобно субъект-объектному знанию, а также непосредственно-личному знанию об абстрактных конвенциях относительно сущностей и дхарм, лишенному обоих этих условных объектов» [Asanga 1950, 66].
Стхирамати поясняет, что этот этап пути характеризуется состояниями совершенного по- коя (śamatha), прозрения (vipaśyanā) в сущность дхарм и отсутствием конструирующего мышления (nirvikalpa) [Tatia (ed.) 1976, 76] – иными словами, на этом этапе адепт уже видит реальность такой, какова она есть (yathābhūta), без примысливания к ней каких бы то ни было ментальных конструктов, неизбежно аффективно окрашенных. Ниже в АС Асанга определяет śamatha как внутреннюю связность сознания, спокойствие, умиротворение, контроль за состоянием сознания, его однонаправленность и сосредоточение, vipaśyanā же понимается как то, что исчисляет, различает, логически анализирует состояния сознания и их изменение, оценивая все это как должное или недолжное [Asanga 1950, 75]. Неслучайно понятие совершенного покоя идет здесь первым: без полного успокоения сознания невозможно никакое истинное познание, ибо сознание, пораженное аффектами, неизбежно будет конструировать объекты желания, а значит, и само желание и все, что из него следует (страсть, отвращение, самомнение и другие базовые аффекты).
У пути видения есть шестнадцать частей, которые Асанга перечисляет: это «принятие знания учения о страдании; знание учения о страдании; принятие последующего знания о страдании; последующее знание о страдании; принятие знания учения о возникновении [страдания]; знание учения о возникновении [страдания]; принятие последующего знания о возникновении [страдания]; последующее знание о возникновении [страдания]; принятие знания учения о прекращении [страдания]; знание учения о прекращении [страдания]; принятие последующего знания о прекращении [страдания]; последующее знание о прекращении [страдания]; принятие знания учения о пути [прекращения страдания]; знание учения о пути [прекращения страдания]; принятие последующего знания о пути [прекращения страдания]; последующее знание о пути [прекращения страдания]» [Asanga 1950, 66]. При этом словом «принятие» мы переводим здесь санскр. ksānti, которое вообще означает «терпение». Асанга, насколько об этом можно судить, указывает на то, что знание о всеобщем страдании принимается адептом, хотя даже само по себе это знание способно быть причиной страдания, которое адепт тем не менее должен переносить с подобающим смирением и пониманием его истинности. Как указывает Сангхабхадра в трактате «Абхидхар-ма-ньяя-анусара» (Abhidharma-nyāyānusāra), когда адепт, освободившись от всяких стремлений по отношению к объектам чувственного мира, принимает знание о страдании, устраняются аффективные предрасположенности и достигается pratisam khyā-nirodha – прекращение функционирования аффектов и опирающейся на них деятельности сознания посредством активного подавления самих аффектов и их «семян» и предотвращения прорастания последних [Dhammajoti 2009, 179].
Пути культивирования (bhāvanā-mārga) Асанга уделяет особенно много внимания. Прежде всего, важен сам термин bhāvanā, который порой переводят как «созерцание». Этимологически он происходит от каузатива глагола bhū «быть»: bhāvayati «[он] осуществляет, побуждает нечто существовать», так что bhāvanā означает буквально «культивирование, взращивание, пестование». Путь культивирования – этап практики, следующий за путем ви´дения, и суть его отчасти раскрывается в АКБ, где сказано, что «на пути созерцания нет ничего, что не было бы познано прежде, но [адепт] познает все это снова и снова, чтобы полностью устранить оставшиеся следы аф-фективности» [Васубандху 1998, 436]. Ничего принципиально нового в отношении содержания учения, как видим, человек на этой стадии не обретает, и смысл ее в другом – возделывать, культивировать благие качества, возникшие на предыдущих этапах, и совершенствовать понимание учения. Объектами культивирования выступают здесь мудрость и благие качества. Медитация составляет, несомненно, существенную часть этого процесса, однако ею одной культивирование мудрости и благих качеств отнюдь не исчерпывается [Dhammajoti 2009, 460]. Заслуживает внимания также фрагмент из «Махаяна-сутралам-кары» Асанги, где пути ви´дения и культивирования связываются соответственно с путями бодхисаттв и будд как их кульминации [Nagao 1991, 78–79].
Асанга описывает bhāvanā-mārga так: «За путем видения [следуют] мирской путь, сверхмирской путь, слабый путь, средний путь, сильный путь, подготовительный путь, беспре- пятственный путь, путь освобождения, особенный путь» [Asanga 1950, 68]. Перед нами перечисление стадий пути культивирования, в ходе которых устраняются все более тонкие аффекты. Мирской путь описывается в АС как первые четыре уровня медитации (dhyāna), касающиеся мира не-форм [Asanga 1950, 68]. Этим преодолеваются страсть, отвращение и другие аффекты, направленные на объекты чувственного мира, – аффекты наиболее яркие, наиболее заметные и потому легче всего поддающиеся искоренению. На более высоких уровнях из психики устраняются все более тонкие аффекты и в конце концов – те, что связаны с миром не-форм [Dhammajoti 2009, 461]. Сверхмирской путь как стадию пути культивирования Асанга определяет как «знание [истин] страдания, [его] возникновения, [его] уничтожения и пути [его уничтожения], [а также всего, что] относится к знанию Учения и последующему знанию, связанное с ними сосредоточение, первый [уровень] медитации вплоть до сферы ничто» [Asanga 1950, 69].
Из этого видно, что на сверхмирском пути объектами культивирования выступают собственно четыре Благородные истины – основа буддийской догматики, а также комплекс принципов, логически следующих из нее. Если на первой стадии пути культивирования адепт сосредоточивается на преодолении «мирских» аффектов, то здесь, на сверхмирском пути он должен преодолеть саму привязанность к мирскому существованию, в каких бы высоких и блаженных мирах оно ни протекало. Далее, на слабом, среднем и сильном путях адепт оставляет соответственно сильные, средние и слабые аффекты: слабый путь (mгdumārga) потому и называется так, что на этой стадии пути у адепта еще не хватает сил и способностей преодолеть более тонкие аффекты и ему поддаются только самые грубые и легко искоренимые. На подготовительном пути аффекты преодолеваются окончательно, на беспрепятственном – устраняется возможность возникновения новых аффектов (понимаемых как препятствия, не позволяющие человеку узреть истинную реальность), на пути освобождения адепт в конце концов уничтожает все, что мешает ему видеть реальность, и обретает просветление [Asanga
1950, 70]. Автор АКБ понимает подготовительный путь, или путь приложения усилий (prayoga-mārga) как такой, который приводит к беспрепятственному пути, беспрепятственный – как тот, посредством коего устраняются все препятствия (āvarana), а путь освобождения – как тот, который возникает после того, как уничтожены все препятствия [Васубанд-ху 2006, 409]. Наконец, особый путь устраняет аффекты благодаря тому, что уничтожает дхарму обладания ими, так что они уже не могут длиться [Васубандху 2006, 101, 182].
Последняя стадия практики – это путь завершения, определяемый в АС как «сосредоточение, подобное алмазу, так как [оно] кладет конец всякой ригидности, уничтожает всякие оковы и дарует всяческое освобождение; за ним непосредственно следуют непрерывный переворот в основании, обретается знание об уничтожении [аффектов], знание о невозникновении [новых аффектов] и десять качеств [стадии] не-ученичества» [Asanga 1950, 76]. Это сосредоточение (samādhi) характеризуется Асангой как всепроницающее (vyāpī) и имеющее один вкус (ekarasa) [Asanga 1950, 76]. Результатом завершающего пути становится «переворот в основании» (āśraya-pravгtti, в других буддийских текстах также āśraya-parivгtti) – радикальное и окончательное изменение всего потока дхарм, составляющих то, что мы обычно называем «индивидом», и устранение из потока всех дхарм с притоком аффективности. Адепт, достигнув этого состояния, принципиально меняет себя – свое сознание, свое восприятие буддийского пути и свое отношение ко всякой неправедности [Asanga 1950, 77], после чего она становится для него невозможной в принципе. Он полностью устраняет из своего потока дхарм все то, что может хотя бы в какой-то мере привязывать его к сансаре. АКБ гласит, что лишь тот, кто полностью прошел стадию «пути в и дения» или более высокие стадии (плод архатства), всецело преобразует собственную личность, остальные же методы созерцания несовершенны ни по своей природе, ни по результатам, поэтому полного преобразования прежней индивидуальности не происходит [Ва-субандху 2001, 563]. Один из принципиально важных аспектов этого переворота – переход от мира относительной истины (samvгtti-satya)
к истине абсолютной (paramārtha-satya), или, иначе говоря, от множества ментальных конструктов, которые мы, побуждаемые аффектами, приписываем реальности, к самóй реальности [Keenan 1989, 11]. В этом отношении йогачара отличается от другой махаянс-кой школы – мадхьямаки – тем, что не ограничивается доказательством пустоты любых словесных обозначений, понятий и концептуальных построений, но и утверждает, что в них, несмотря на их пустоту, есть все же нечто, что отсылает к некоторой реальности, хотя и не поддающейся словесному описанию [Gold 2015, 217].
Как видим, плодом, завершающим последнюю, пятую стадию пути, является «переворот в основании» (āśraya-parivгtti) – такая трансформация, которая совершенно меняет индивидуальный поток дхарм, именуемый «личностью», исключая из него все дхармы с притоком аффективности. Это в АС и понимается как завершение практики [Asanga 1950, 67]. В трактате прямо говорится, что переворот в основании непостижим для обыденного человеческого сознания [Asanga 1950, 80], и постичь его суть может лишь тот, кто уже завершил путь практики. Этот переворот затрагивает три сферы – собственно сознание, нравственность и то, что на санскрите именуется dausthulya. Последний термин многозначен и требует поэтому особого разъяснения. Чисто словарное его значение – «неправедность, порочность, греховность» [Edgerton 1953, 272], однако в комментарии к «Тримшике» Стхирамати противопоставляет dausthulya и praśrabdhi «гибкость, легкость». Dausthulya понимается у него как косность, ригидность, причем как в ментальном смысле (негибкость сознания, стереотипность мышления, неспособность и/или нежелание выйти за рамки привычного мировоззрения), так и в соматическом (скованность мышц). Когда устраняется телесная ригидность, возникает и умственная раскрепощенность, ясность и легкость мысли, без которых невозможно взаимодействие сознания со своим предметом – то есть, собственно, познание [Островская 2019, 64]. В то же время в АСБ проводится различие между переворотом в основании, достигаемым на путях колесницы шраваков и махаяны: в первом случае происхо- дит освобождение от объектов, составляющих группы дхарм, элементы и источники сознания (соотв. skandha, dhātu, āyatana), но не их полное устранение, на махаянском же пути достигается и то, и другое [Tatia (ed.) 1976, 42]. Из этого видно, что переворот в основании в отношении ригидности (или греховности) на пути махаяны – это не просто преодоление аффектов, порождающих ригидность, в пределах индивидуального потока дхарм, но принципиальное их устранение – уничтожение не только активных аффектов, но и потенциальных, или «семян» (bīja) аффектов. Соответственно этому, переворот в основании в отношении нравственности – это такое изменение потока дхарм, после которого нравственное поведение становится частью природы обновленной личности, а переворот в основании в отношении сознания – это освобождение сознания от всего, что препятствует видению истинной реальности.
В другом месте АС Асанга говорит о пяти ступенях йоги, последней из которых назван именно переворот в основании. Он следует за знанием, свободным от деления на субъект и объект (четвертая ступень), и завершает йогический путь [Asanga 1950, 83]. Интересно, что в другом трактате, автором которого тоже считается Асанга, – «Компендиуме махаяны» (Mahāyāna-samgraha, или Mahāyāna-samparigraha-śāstra) о сознании созревания (vipāka-vijñāna, отождествляемое в АС с сознанием-сокровищницей) сказано, что в ходе медитативной практики оно постепенно угасает и в конце концов оказывается совершенно свободно от потенциальных аффектов и тем самым устраняется, что и составляет переворот в основании [Asanga 2003, 31]. Итогом практики, согласно «Компендиуму махаяны», становится не просто освобождение индивидуального потока дхарм от дхарм с притоком аффек-тивности, но полное «высыхание» этого потока. Как видим, взгляды разных авторов на природу окончательного просветления в йогачаре все же несколько отличались: в других текстах этой школы говорится, что просветление наступает тогда, когда сознание-сокровищница полностью освобождается от «семян» и реальных аффектов, но о прерывании существования самого сознания-сокровищницы речи в них не идет.
Наконец, в «Махаяна-сутраланкаре» Асанги сказано, что переворот в основании
(там он назван āśrayasya-anyathā-apti) достигается путем неконструирующего знания (nirvikalpa jñāna), то есть знания, свободного от всякого «примысливания» к реальности того, что ей не свойственно [Asanga 2004, 78]. Это чистое «зеркалоподобное» сознание точно отражает реальность саму по себе, всякая же субъективность устраняется из него полностью. Переворот в основании сопровождается радикальной трансформацией самих органов чувств, а значит, и трансформацией восприятия объектов, которые начинают восприниматься такими, каковы они на самом деле [Asanga 2004, 88]. Из этого фрагмента видно, в частности, что йогачарины (по крайней мере, Асанга, Майтреянатха и Васубандху) не отрицали существование реальности вне сознания. В йогачаре проводилось вполне ясное различие между объектами, которые сознание воспринимает в бодрствующем состоянии, и сновидениями: первые суть объекты, общие для разных сознаний, тогда как вторые определяются только индивидуальной кармой [Орлов 2005, 292]. Помимо этого, трансформация сознания сопровождается изменением и нравственных качеств личности, из чего видно, что нравственность прямо связывалась в йогача-ре с познанием. Можно ли сказать, что йогача-ринская мысль была в этом отношении сходна со взглядами Сократа о благе как естественном объекте стремлений каждого человека и о зле, творимом человеком, – как результате неведения о том, что такое истинное благо? Это сходство может быть (и, скорее всего, является) поверхностным – учитывая глубочайшие культурные различия между цивилизациями, в которых формировались взгляды Сократа и йогачаринов, но, во всяком случае, пройти мимо этого сходства невозможно; анализ этого вопроса не входит в задачи настоящей статьи, но, несомненно, должен быть проведен.
Более важен для нас сейчас другой вопрос: можно ли отождествить друг с другом нирвану, просветление (bodhi), угасание (nirodha) аффектов и переворот в основании? Ответ на этот вопрос, учитывая все сказанное, должен быть таков: полное отождествление содержаний этих понятий, разумеется, невозможно, но нирвана среди них выступает понятием, которое охватывает все другие, выступающие здесь как ее аспекты или со- бытия, ведущие к ней. Просветление – это, по существу, эпистемологический аспект нирваны, так как оно открывает адепту знание истинной реальности [Островская-мл. 1993, 406]. Nirodha – это угасание аффектов или (в йогачаре) прекращение деятельности активных аффектов (kleśa) и устранение из сознания-сокровищницы (а значит, и из эмпирического сознания) потенциальных аффектов (bīja). Оно ведет к просветлению, так как аффекты возмущают сознание, подобно ветру, создающему рябь на воде, и, когда они устранены, сознание обретает способность отражать реальность как она есть. В связи с этим nirodha – необходимое условие для достижения просветления и нирваны. Наконец, переворот в основании – это событие, содержание которого составляет окончательное угасание всех аффектов, как активных, так и потенциальных.
Однако тот, кто окончательно изгнал из своего сознания все аффекты и погрузился в нирвану, уже не будет иметь возможности спасать живые существа из сансары. Религиозным же идеалом махаяны, как известно, является бодхисаттва – тот, кто дал клятву спасти все живые существа, сколько бы их ни было, из колеса перерождений, но покинуть сансару сам он не может. Главный идеологический парадокс махаяны состоит в том, что человек, прошедший до конца вышеописанный путь, не будет уже соответствовать идеалу бодхисаттвы, а тот, кто намерен реализовывать этот идеал, должен, пройдя большую часть пути, остановиться «на пороге нирваны», не переступая его. Бодхисаттва должен сохранять в потоке индивидуальных дхарм минимально необходимый уровень аффектов и сознательно отказываться от окончательного просветления, чтобы иметь возможность исполнять свою клятву и вести к просветлению все живые существа. Спасителями в махаяне выступают, таким образом, те, кто сам еще спасения не обрел.
Этот религиозный парадокс имеет еще один аспект. Если религиозным идеалом выступает бодхисаттва, то следует ли живым существам стремиться к нирване, а не к этому идеалу? Нирвана, хоть и провозглашается в махаяне целью всех религиозных практик, в действительности отступает перед этим идеалом, и путь к просветлению парадоксальным образом оказывается важнее самого просветления.
Для решения этого парадокса в религиозную идеологию махаяны было введено понятие «неокончательной нирваны» (apratisthita-nirvā na) – состояния нирваны, которое, однако, не исключает для бодхисаттвы возможность оставаться в сансаре, чтобы вести живые существа к просветлению.
Как видим, путь просветления в махаяне понимается как постепенное накопление религиозных заслуг и формирование благих поведенческих и мыслительных диспозиций, которые должны стать естественными для человека, после чего становится возможным интуитивное постижение истинности буддийского учения, а за ним – медитативные практики все более высоких уровней, призванные изгнать из сознания все более слабые и тонкие аффекты. Окончательное устранение их и будет просветлением и нирваной, но сделает невозможной реализацию идеала бодхисаттвы – того, кто дал клятву спасти все живые существа из сансары. В связи с этим пройти этот путь до конца последователь махаяны, строго говоря, не может, так как это сделает невозможным для него исполнение этой клятвы, и он должен остановиться «на пороге просветления», отказываясь покинуть сансару, чтобы иметь возможность спасти других.
Список литературы Пять стадий религиозной практики в философии ранней йогачары
- Васубандху 1998 - Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Т. 1. Раздел I: Учение о классах элементов; Раздел II: Учение о факторах доминирования в психике. М. : Ладомир, 1998.
- Васубандху 2001 - Васубандху. Энциклопедия Аб-хидхармы (Абхидхармакоша). Т. 2. Раздел III: Учение о мире; Раздел IV: Учение о карме. М.: Ладомир, 2001.
- Васубандху 2006 - Васубандху. Энциклопедия буддийской канонической философии (Абхидхармакоша). СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. унта, 2006.
- Лама Анагарика Говинда 1993 - Говинда Лама Анагарика. Психология раннего буддизма. Основы тибетского мистицизма. СПб. : Андреев и сыновья, 1993.
- Орлов 2005 - Орлов А. Читтаматра: миф и реальность. М.: Шечен, 2005.
- Островская 2019 - Островская Е.П. Базовые черты буддийской личности // Письменные памятники Востока. 2019. Т. 16, №> 3 (вып. 38). С. 59-69.
- Островская-мл. 1993 - Островская-мл. Е.А. Буддийский эпистемологический идеал yathabhutam // Буддизм в переводах. Вып. 2. СПб.: Андреев и сыновья, 1993. С. 400-410.
- Рудой 1994 - Рудой В.И. Становление буддийской религиозно-философской традиции в древней и раннесредневековой Индии / Островская Е.П., Рудой В.И. (ред.). Буддийский взгляд на мир . СПб.: Андреев и сыновья, 1993. С. 20-46.
- Asanga 1950 - Asanga. Abhidharma samuccaya. Santiniketan: Visva-Bharati, 1950.
- Asanga 2003 - Asanga. The Summary of the Great Vehicle. Berkeley: Numata Center for Buddhist Translation and Research, 2003.
- Asanga 2004 - Asanga. The Universal Vehicle Discourse Literature (Mahâyânasutrâlamkâra) Together with its Commentary (Bhasya) by Vasubandhu. N. Y. : American Institute of Buddhist Studies. 2004.
- Dhammajoti 2009 - Dhammajoti Bhikkhu K. L. Sarvastivada Abhidharma. Hong Kong: Centre of Buddhist Studies, the University of Hong Kong, 2009.
- Edgerton 1953 - Edgerton F. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. Vol. II. New Haven: Yale University Press, 1953.
- Gold 2015 - Gold J. Without Karma and Nirvana, Buddhism is Nihilism: The Yogacara Contribution to the Doctrine of Emptiness / Garfield J.L., Westerhoff J. (eds.). Madhyamaka and Yogacara: Allies or Rivals? Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 213-241.
- Griffiths 2003 - Griffiths P. Sthiramati, Blmsya on Asanga's Abhidharmasamuccaya / Potter K.H. (ed.). Encyclopedia of Indian Philosophies. Vol. IX: Buddhist Philosophy from 350 to 600 A.D. Delhi: Motilal Banarsidass, 2003. P. 495-510.
- Keenan 1989 - Keenan J.P. Introduction // The Realm of Awakening: A Translation and Study of the Tenth Chapter of Asanga's Mahayanasangraha. N. Y.; Oxford: Oxford University Press, 1989. P. 3-45.
- Nagao 1991 - Nagao G.M. Madhyamika and Yogacara: A Study of Mahayana Philosophies. Albany: State University of New York Press, 1991.
- Pradhan 1950 - Pradhan P. Introduction // Asanga. Abhidharma samuccaya. Santiniketan: Visva Bharati, 1950.
- Tatia (ed.) 1976 - Tatia N. (ed.). Abhidharmasamuccayabhasyam. Patna: Kasiprasada Jayasavala Anusilana Samstha, 1976.
- Vaidya (ed.) 1960 - Vaidya P.L. (ed.). Nagarjuna. Madhyamakasastra with the Commentary "Prasannapada" by Candrakirti. Darbhanga: The Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1960.
- Vasubandhu 1967 - Vasubandhu. Abhidharmakosabhasya. Patna: K.P Jayaswal Research Institute, 1967.