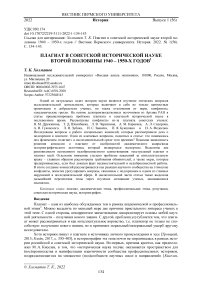Плагиат в советской исторической науке второй половины 1940 - 1950-х годов
Автор: Холматов Т.К.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Историческая наука в СССР
Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.
Бесплатный доступ
Одной из актуальных задач истории науки является изучение этических вопросов исследовательской деятельности, которые включают в себя не только ценностные ориентации и добродетели ученых, но также отклонения от норм, конфликты, «академические грехи». На основе делопроизводственных источников из Архива РАН в статье проанализирована проблема плагиата в советской исторической науке в послевоенное время. Рассмотрены конфликты из-за плагиата советских ученых: Н. М. Дружинина, Т. Д. Шоинбаева, Л. В. Черепнина, А. М. Карасика, А. Л. Сидорова, А. И. Гуковского, Л. И. Зубока, И. С. Звавича, П. Я. Букшпана и И. А. Федосова. Исследованы вопросы о работе специальных комиссий, которые рассматривали дела о подозрении в плагиате. Один из ключевых вопросов, поднятых в статье: что понималось под феноменом «плагиат» в исследовательской среде того времени? Показана зависимость решения комиссии о плагиате от особенностей академического жанра/вида историографического источника, который подвергался экспертизе. Выделены две разновидности осознанного недобросовестного заимствования: текстуальный плагиат и плагиат идей. Отдельное внимание уделено проблеме наказаний за интеллектуальную кражу - главным образом рассмотрены требования обвинителей, а также меры, которые предпринимались, если был доказан факт несамостоятельной и недобросовестной работы. В итоге создание комиссий рассматривается как реакция научного сообщества на этические конфликты, попытка урегулировать вопросы, связанные с подозрением в одном из главных нарушений в исследовательской сфере. В заключительной части статьи также выделена дальнейшей перспектива темы через изучение мотивации ученых, занимавшихся плагиатом.
Плагиат, академическая этика, профессиональная этика, репутация, советская историческая наука, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/147246401
IDR: 147246401 | УДК: 930:174 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-134-143
Текст научной статьи Плагиат в советской исторической науке второй половины 1940 - 1950-х годов
Плагиат – одна из наиболее обсуждаемых тем в рамках академической и профессиональной этики2. Можно выделить по меньшей мере две причины пристального интереса ученых к этой теме. С одной стороны, некорректное заимствование дискредитирует основы любой научной деятельности – получения нового знания. С другой, проблема усугубляется тем, что плагиат может рассматриваться и как интеллектуальное воровство, т.е. плагиатор не только не способствует получению нового знания, но и причиняет моральный/материальный ущерб другому исследователю.
Хотя историки пишут о плагиате в источниках личного происхождения и эссе [ Троицкий , 2013; Клейн , 2017, с. 330–405], в историографии эта тема почти не затрагивалась в рамках истории российской и советской исторической науки. Во-первых, причина кроется, как предположил М. А. Киселев, в том, что «историческая наука подчас оказывается пространством для (вос)производства и манифестации идентичности сообщества профессиональных историков, подразделяющегося на множество (под)сообществ научных школ и направлений» [ Киселев ,
2020 a , с. 124]. Вследствие чего исследователи анализируют в основном успехи, чем отклонения от общепринятых норм «коллег по цеху».
Вероятно, эта проблема связана с отсутствием систематического интереса к этическим вопросам (этические принципы ученых, конвенции, нарушения, конфликты и т.д.) в историографии. Тема этики является неотъемлемым компонентом в изучении таких фундаментальных вопросов, как взаимоотношения представителей научного сообщества и властных структур [ Дубровский , 2017], дискуссии между учеными [ Тихонов , 2016; Крих , 2020; Киселев , 2020 b ], а также образ историков в научной сфере [ Сидорова , 2017]. Тем не менее в рамках перечисленных вопросов этика была скорее фоном, чем предметом исследования. Этика выступает как фон и в исследованиях челябинских историографов, с 2010-х гг. активно разрабатывающих концепт «диссертационной культуры». Исследователи затрагивают вопросы о диспутах, экспертизе, профессионализации историков и ряд других вопросов, тесно связанных с темой о нормах и ценностях российских историков в XIX – начале XX в. [ Алеврас , 2014; Алеврас , Гришина , Выдрин , 2019]. Однако эти вопросы не отрефлексированы с точки зрения этики – как профессиональной, так и академической. Постепенно возрастающий интерес к этическим вопросам в российской/советской исторической науке наблюдается на рубеже 2010–2020-х гг. Так, помимо двух статей о плагиате [ Киселев , 2020 a ; Груздинская , Ковалев , 2021], можно выделить исследование В. П. Корзун, в котором вопрос о ценностных установках стоит в связи с (де)классикализацией историков в советской историографии 1920–1930-х гг. [ Корзун , 2020].
Во-вторых, слабая разработка проблемы плагиата в историографии также связана с теоретико-методологическими трудностями. Погрузившись в данную тему, исследователю следует понять, что именно подразумевалось под плагиатом в конкретный исторический период и какое место он занимал среди других этических нарушений в академической среде.
Несмотря на перечисленные ограничения, изучение этических вопросов, с одной стороны, позволяет глубже раскрыть нормы, ценности и добродетели историков как ученых, связь их научных принципов с профессиональной этикой и академической, обстоятельства научной деятельности, особенно в 1920–1950-е гг., когда в советской академии работали разные поколения историков: дореволюционное, марксистское, а затем и послевоенное [ Сидорова , 2008]. С другой стороны, раскрыть вопросы, связанные с отклонением от нормы, нарушением профессиональной и/или академической этики.
Не менее важен вопрос об исторических источниках: что позволяет достоверно изучить представления научного сообщества о плагиате? Применительно к советской эпохе можно выделить делопроизводственные материалы: протоколы заседаний и стенографические отчеты комиссий, резолюции, которые рассматривали случаи возможного плагиата. Эти источники позволяют изучить вопрос о плагиате с точки зрения самих современников: как ученые организовывали и структурировали свое представление о данном феномене. Ученые, участники партсобраний, члены комиссий по рассмотрению обвинений в плагиате в ходе рассуждений исходили из интерсубъективных представлений, норм и ценностей, которые разделяло научное сообщество. Кроме того, делопроизводственные материалы нередко позволяют проследить механизмы регулирования случаев плагиата в академической сфере. На основе этих источников можно ответить на вопросы о том, как работали подобные комиссии, как формировались подозрения в плагиате, каковы были способы урегулирования подобных случаев, какие меры предпринимались, если случай плагиата удалось подтвердить.
Как рассматривались дела о плагиате
Официально рассмотрение вопроса, по всей видимости, начиналось после поступления заявления от лица, которое позиционировало себя как жертву плагиата. В заявлении, как правило, излагались причины и мотивы обращения, характер заимствования (часто с указанием страниц), аргументированные предположения об обстоятельствах возможной интеллектуальной кражи. Порой в качестве заявителей выступали третьи лица. В 1949 г. с обвинением в плагиате Л. И. Зубока выступил И. С. Звавич, который в заявлении указал на заимствования из диссертации Е. В. Анановой об американо-мексиканских отношениях в годы правления Вудро Вильсона (АРАН. Ф. 1702. Оп. 3. Д. 459. Л. 7–21). Причина обращения именно И. С. Звавича связана с публикацией рецензии в журнале «Советская книга» на работу «Империалистическая политика США в странах Карибского бассейна» Л. И. Зубока (Звавич, 1949), а также с выясне- нием подробностей об этой книге (после того как рецензия была сдана в печать). Со слов автора рецензии, несмотря на критический отклик, он не мог предположить, что значительная часть текста была заимствована из исследования ученицы Л. И. Зубока – Е. В. Анановой. В итоге И. С. Звавич выделил два мотива, побудившие написать заявление. Они носили общенаучный и личный характер. С одной стороны, он отметил, что выяснение обстоятельств заимствования, нарушение норм и принципов научного сообщества не могли оставить его равнодушным, с другой – снять с себя подозрения в содействии плагиату: «Cчитаю необходимым заявить, что мотивами, побудившими меня заняться данным вопросом, были исключительно: а) уверенность в том, что подобные “зомбартовские” приемы использования работ учеников нетерпимы в нашей стране, и б) мнение, что, поскольку рецензия на книгу Л. Зубока мною написана, я отвечаю за то, чтобы факты, мною обнаруженные после написания, стали достоянием общественности» (Там же. Л. 21).
После поступления заявления инициировалось создание специальных комиссий. Ключевую роль в экспертизе играло выяснение обстоятельств вероятного плагиата. Со стороны членов комиссии и ученых, которые предварительно рассматривали заявления, требовалось дать решительный ответ: является ли фактом несамостоятельность работы или нет? С учетом того что плагиат рассматривался как одно из главных нарушений в академической сфере, ответственность за принятие решения включала в себя изучение всех возможных нюансов и мельчайших подробностей дела. По этой причине члены комиссии были заинтересованы в получении широкого круга материалов и свидетельств. Так, в 1954 г. в случае заявления П. Я. Букшпана о плагиате И. А. Федосова комиссия для получения дополнительной экспертизы обратилась к М. Н. Тихомировуи предоставила, помимо заявления и статей, ряд дополнительных материалов: архивную справку, ведомости, ответы и объяснения потенциального плагиатора и заявителя, а также заключение предыдущей экспертизы, проведенной Н. М. Дружининым (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 37. Л. 1–1 об.). Основная идея статей как П. Я. Букшпана («Московский университет в 1813–1814 гг.»), так и И. А. Федосова («Московский университет в 1812 году»), согласно М. Н. Тихомирову, заключалась в том, что «прогрессивные круги добивались открытия университета вопреки царскому правительству» (Там же. Л. 2). При этом М. Н. Тихомиров подчеркивал, что «приоритет в высказывании этой мысли не может быть приписан ни тому, ни другому автору, так как подобную же мысль задолго до них развивали все прогрессивные круги русского общества . Ни один советский автор и не мог сделать иного вывода [здесь и далее в тексте курсив мой. – Т. Х. ]; нельзя же было приписать царскому правительству стремление открыть университет, а прогрессивным кругам желание его закрыть. Поэтому никакого вопроса о приоритете в высказывании этой мысли и нельзя ставить по отношению к обоим авторам. Они повторили давно известные истины» (Там же). Таким образом, схожесть идей объясняется общими этическими установками: оба автора пришли к одним и тем же выводам, так как следовали тому пути, который присущ этосу советского ученого и его идеологическим установкам . Кроме того, необходимость привлечения столь широкого круга материалов была вызвана не только схожим содержанием статей, но также совпадением в цитировании одних и тех же источников: « источники по истории того или иного вопроса не являются личной собственностью автора, а принадлежат всем исследователям . При пользовании одними и теми же источниками очень часто встречаются сходные выводы и формулировки, возникшие у разных авторов совершенно независимо» (Там же. Л. 2 об.).
Изучение новых обстоятельств, уточнение ряда вопросов, выяснение версий различных сторон и другие условия могли затягивать работу комиссии. Поэтому нередко назначались повторные заседания или поднимался вопрос о создании новой комиссии. Например, заключение Н. М. Дружинина 1954 г., в котором выражалось сомнение о невиновности И. А. Федосова, способствовало выяснению новых обстоятельств и дальнейшей экспертизе, в том числе со стороны М. Н. Тихомирова (Там же. Л. 10).
Что такое плагиат?
В целом в делопроизводственных материалах плагиат рассматривается как осознанное недобросовестное заимствование/интеллектуальная кража . Одной из разновидностей данного феномена был текстуальный плагиат: когда в результате экспертизы было обнаружено, что текст был скопирован из другой работы, либо использован с незначительной корректировкой
(для скрытия следов авторства). Причем объем/соотношение оригинального и заимствованного текста не был четко зафиксирован. В экспертизе ключевую роль играло определение самого факта оригинальности/несамостоятельности работы. В случае текстуального плагиата наглядные примеры и доказательства несамостоятельности работы приводились путем демонстрации явных заимствований с указанием страниц (АРАН.Ф. 1702. Оп. 3. Д. 459. Л. 12–17; Д. 476. Л. 21–30).
Восприятие текстуального плагиата как осознанного недобросовестного заимствования прослеживается в переписке Н. М. и Е. И. Дружининых с казахским историком Т. Д. Шоинбаевым в 1950-е гг. (АРАН. Ф. 1604. Оп. 3. Д. 70). В 1952 г. было опубликовано третье издание первого тома «Истории Казахской ССР» [История Казахской ССР, 1952]. В текст должен был войти раздел Н. М. Дружинина «Социально-экономические последствия присоединения Казахстана к России» из второго издания. Раздел был ощутимо пополнен и переработан Т. Д. Шоинбаевым (членом редколлегии третьего издания), в результате чего Н. М. Дружинин написал ему, что не может «претендовать на авторство» (АРАН. Ф. 1604. Оп. 3. Д. 70. Л. 8). Судя по переписке, Т. Д. Шоинбаев не только не включил данный текст в состав коллективной работы, но также использовал его при написании собственной статьи для научного журнала. В письме Т. Д. Шоинбаеву 1958 г. Е. И. Дружинина (супруга Н. М. Дружинина) подчеркнула именно текстуальное заимствование: «Раздел “Социальноэкономические последствия присоединения Казахстана к России[”], написанный Николаем Михайловичем для второго издания “Истории Казахской СССР” и не вошедший в третье издание этого труда, Вы включили в свою статью не только без согласия автора, но и без всякой ссылки на его авторство. Николай Михайлович считает, что такой поступок нельзя квалифицировать иначе, как присвоение чужой научно-литературной работы » (Там же. Л. 16).
Отдельно замечу, что Е. И. Дружинина в письме подчеркнула моральный ущерб не только личного характера, но и общенаучного: «Таким образом, по мнению Николая Михайловича, Вы не только заимствовали без ссылки его текст о прогрессивных экономических последствиях присоединения Казахстана к России (§ 38 “Истории КазССР”), но сознательно присвоили себе инициативу в постановке этой проблемы, исказив истину и бросив тень не только на Николая Михайловича как на автора гл[авы] XV второго издания, но и на всю редакцию “Истории Казахской ССР” второго издания » (Там же. Л. 16–17). Совместная практика производства знания предполагает общие ценностные установки, которые разделяют представители научного сообщества. В данном ключе плагиат рассматривается как подрыв доверия, нарушение общенаучных ценностей.
Переписка между четой Дружининых и Т. Д. Шоинбаевым также позволяет проследить отношение к авторскому приоритету с этической точки зрения. В 1958 г. Т. Д. Шоинбаев написал Н. М. Дружинину, что присвоение текста – результат недопонимания: «Приношу Вам свое глубокое извинение. Поверьте, что это явилось результатом не злого умысла, а моей недостаточной осведомленности в вопросах авторского права» (Там же. Л. 19). В ответном письме Н. М. Дружинин подчеркнул, что соблюдение условий авторского приоритета должно исходить прежде всего из этических принципов ученого: «Вы напрасно ссылаетесь на свою “недостаточную осведомленность в вопросах авторского права”. Присвоение чужого литературного труда осуждается не только законом, но и нашими нравственными понятиями ; чтобы избегнуть подобного поступка, не нужно изучать юридические кодексы, достаточно справиться с голосом своей совести » (Там же. Л. 25). В тексте Н. М. Дружинина подразумевались не только совесть , но также такая добродетель, как честность : наука как совместная деятельность ученых включает в себя не только общие нормы и ценности, ответственность за их соблюдение, но и взаимную согласованность действий. В данном случае плагиат выступает как нарушение негласной договоренности.
По сравнению с текстуальным плагиатом более сложным было разбирательство в подозрении плагиата идей . В случае экспертизы текстуального плагиата значительную роль играло сличение фрагментов из работы обвиняемого с другими текстами, что нередко рассматривалось как неопровержимое доказательство виновности. Установление факта некорректного заимствования идей требовало более глубокой экспертизы. Общим для экспертизы обеих разновидностей плагиата было изучение обстоятельств возможного заимствования.
Во второй половине 1950-х гг. А. М. Карасик обвинил Л. В. Черепнина в заимствовании идей3, которые последний изложил в статьях, опубликованных в «Исторических записках»: «“Повесть временных лет”, ее редакции и предшествующие ей летописные своды» ( Черепнин , 1947) и «Из истории класса феодально-зависимого крестьянина на Руси» ( Черепнин , 1956). Согласно решению комиссии, обвинения необоснованны, так как «оба – и Карасик, и Черепнин – как это довольно обычно и естественно – в своих исследованиях исходили из “мыслей”, высказанных их предшественниками, в некоторых случаях даже свыше 100 лет назад. Это относится и к “Слову о полку Игореве”, и к толкованию понятия “смерд” как государственного крестьянина. Совпадение в некоторых частностях их аргументации объясняется тем, что оба автора пользовались одними и теми же источниками » (АРАН. Ф. 1702. Оп. 3. Д. 476. Л. 2).
Экспертиза вероятного плагиата идей включала в себя историографический анализ текстов. Так, в случае статей Л. В. Черепнина 1956 г. и А. М. Карасика комиссия приняла решение о невиновности первого по причине отсутствия совпадений в толковании понятия «смерд»: «Оба считают “смердов” госуд[арственными] крестьянами, но мысль об этом высказывалась уже давно, напр[имер], Ключевским, Юшковым и др[угими]. Тут ни у Карасика, ни у Черепнина нет ничего оригинального. Оригинально толкование понятия “смерд” у Карасика, как особой группы крестьян, выполнявших военно-административные функции, в особенности в пограничных районах. Такого толкования этого термина до сих пор почти ни у кого не встречалось. Но этого толкования у Черепнина вообще нет» (АРАН. Ф. 1702. Оп. 3. Д. 476. Л. 2–3). В заключении комиссии отсутствовала аргументация о заимствовании в статье Л. В. Черепнина 1947 г. С точки зрения А. М. Карасика, эта статья была написана с опорой на его собственное исследование о «Слове о полку Игореве» (Там же. Л. 16).
Тем не менее в деле А. М. Карасика и Л. В. Черепнина комиссия подчеркнула проблемы этического характера в работе редакции «Исторических записок». Халатность заключалась в том, что лишь двое из одиннадцати редакторов журнала ознакомились со статьей А. М. Карасика о смердах, отправленной в редакцию в 1955 г. (АРАН. Ф. 1702. Оп. 3. Д. 476. Л. 3–4). К концу 1955 г. в редакции находились две статьи по одной и той же теме, однако статья А. М. Карасика не была принята к печати на основе решения двух членов редакции – И. У. Будовница и Л. В. Черепнина4. Несмотря на отклонение, пожалуй, главного обвинения А.М. Карасика в некорректном заимствовании, комиссия поддержала обвинение в неэтическом поступке редакции, так как Л. В. Черепнин одновременно выступал как редактор журнала и автор «конкурирующей» статьи.
Порицание комиссии также было связано со своеобразным «внутригрупповым фаворитизмом» в редакции «Исторических записок»: «Далее у комиссии создалось определенное впечатление, что в редакции “И[сторических] З[аписок]” не очень любят авторов “со стороны”, и что в редакции недостаточно работают [подчеркнуто в тексте. – Т. Х. ] с авторами, которые высказывают оригинальные, самостоятельные взгляды. Есть тенденция, как только воззрения автора не совпадают с общепринятыми, просто отмахнуться от него и вернуть рукопись» (Там же). Вдобавок комиссия порекомендовала редакции позволить А. М. Карасику выступить с собственным изложением понятия «смерд» в одном из выпусков (Там же. Л. 4).
В установлении наличия/отсутствия плагиата заметную роль играл академический жанр/вид историографического источника, который подвергался экспертизе. В конце 1940-х гг. А. И. Гуковский и А. Л. Сидоров написали рецензии на одну и ту же книгу И. И. Минца (Минц, 1946). А. Л. Сидоров был обвинен в плагиате из-за того, что, будучи членом редколлегии «Вопросов истории», отказался публиковать рецензию А. И. Гуковского в журнале и использовал его наработки для собственной публикации в газете «Культура и жизнь» (Сидоров, 1947). Комиссия по расследованию обвинения в плагиате пришла к выводу о самостоятельной работе А. Л. Сидорова. Согласно заключению комиссии, первоначальный вариант рецензии А. Л. Сидорова был значительно больше по объему, чем у А. И. Гуковского (33 и 16 страниц соответственно), однако редакция газеты способствовала переработке и сокращению текста (с 33 до 9 страниц) (АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 598. Л. 1). В итоге значительная часть замечаний из рецензии А. Л. Сидорова отсутствовала в тексте А. И. Гуковского: «Из числа 61 фактического замечания, сделанного А. Л. Сидоровым, 37 отсутствовали в рецензии А. И. Гуковского» (Там же). Замечу, что в заключении речь идет именно о совпадении содержания, т.е. подразумевает- ся наличие общих замечаний, а не текстуальное заимствование. Совпадения объяснялись тем, что критические замечания «восходят к общим источникам, которыми пользовались оба автора, и вытекают из очевидных недостатков лекций И. И. Минца, бросающихся в глаза всякому читателю, хорошо знакомому с источниками и литературой» (Там же. Л. 1 об.). Таким образом, на заключительную оценку членов комиссии повлияла и специфика рецензии как академического жанра/вида историографического источника. В рецензии автор не только фиксирует собственную точку зрения, но и в процессе анализа текста выражает те нормы и ценности, которые преобладают в научном сообществе. Поэтому при очевидных недостатках работы специалисты могут выделить схожие замечания независимо друг от друга.
В основном вопросы плагиата рассматривались применительно к научным исследованиям, но были случаи, связанные с плагиатом в учебных текстах. Не исключено, что это связано с самой спецификой и целеполаганием данного вида литературы. Учебная литература может содержать принципиально новое знание, однако ее главная цель – образовательная. Чаще всего это подразумевает систематический аккумулятивный характер изложения уже известных в науке сведений. Автор учебника/учебного пособия мог поддаться соблазну: выдать чужой интеллектуальный продукт за свой, использовать изыскания исследователей без указания ссылок. Например, в докладном письме академиков И. М. Майского и А. М. Деборина директору Института истории АН СССР члену-корреспонденту В. М. Хвостову и секретарю парторганизации Института истории Н. И. Саморукову 1960 г. о плагиате главы «Румыния в 1918–1939 гг.» (автор – М. Г. Сазина) в учебном пособии по новейшей истории отмечено следующее: «Плагиат является позорным явлением и требует самой решительной борьбы против него в среде советских ученых. Такая борьба тем более необходима, что в этой среде имеются люди, которые проповедуют гнилую теорию, будто бы плагиат недопустим в научных монографиях, а при составлении учебников и учебных пособий плагиат представляет собой чуть ли не вполне закономерное явление » (АРАН. Ф. 1702. Оп. 3. Д. 476. Л. 17–18).
Наказание за плагиат
Сама мера наказания позволяет глубже понять то, что именно понималось под плагиатом в академической сфере. То, какое место плагиат занимал в иерархии других академических нарушений, – тема для отдельного исследования. В данном разделе я сконцентрируюсь на требованиях обвинителей, а также мерах, которые предпринимались по отношению к плагиаторам.
По всей видимости, если комиссии удалось обнаружить плагиат, то наиболее суровой мерой по отношению к плагиатору было увольнение как стремление лишить или ограничить доступ к профессиональной среде. Так, в протоколе заседания дирекции Института истории АН СССР от 9 октября 1952 г. было зафиксировано решение об увольнении старшего научного сотрудника сектора новейшей истории И. Н. Слободянюка «за недобросовестное отношение к работе, проявившееся в том, что представленная глава для “Всемирной истории” (“Италия 1934–1937 гг.”) оказалась почти целиком (13 и 14 страниц) заимствованной (плагиат)» (АРАН. Ф. 1702. Оп. 3. Д. 459. Л. 28). При этом осуждались и сотрудники, которые рецензировали данную работу и, не заметив плагиат, дали положительный отзыв. Однако в материалах данного дела конкретные меры наказания данных сотрудников не приведены5.
Одно из главных требований обвинителя было публичное признание . Н. М. Дружинин в письме Т. Д. Шоинбаеву в 1958 г. подчеркнул: «Очевидно, Вы не осознали до конца ошибочности своих действий. Я хочу верить, что в конце концов Вы вполне поймете неправильность своего поступка и откровенно, как этого требует этика советского ученого, скажете о своей ошибке – и в Алма-Ате, и в Москве » (АРАН. Ф. 1604. Оп. 3. Д. 70. Л. 26). Подобные требования были вызваны несколькими причинами. Плагиат рассматривался как одно из главных нарушений в академической сфере, поэтому ученые рассматривали публичное признание как назидательный акт . Отчетливо поучительные черты прослеживаются в записке А. М. Деборина о ранее упомянутом случае плагиата учебной литературы: «В этом деле, по моему мнению, очень важна моральная сторона . Всякое снисхождение крайне опасно, так как оно может поощрить к халтуре нашу молодую [так в тексте. – Т.Х .] недостаточно зрелую часть коллектива» (АРАН. Ф. 1702. Оп. 3. Д. 476. Л. 19).
По крайней мере еще одна причина требования публичного признания в совершении плагиата связана с репутацией. Любая причастность в содействии плагиату может бесповоротно запятнать ее. Можно предположить, что исследователь, который рассматривал себя как жертву (чтобы снять с себя подозрения в виновности), требовал от обидчика обнародования своих действий с целью четко обозначить роли в сложившейся ситуации. В ранее упомянутом случае Л. И. Зубока и Е. В. Анановой участие И. С. Звавича в качестве обвинителя было связано также с частной причиной – стремлением сохранить собственную репутацию честного ученого. В 1949 г. в заявлении комиссии Партбюро Института истории Академии наук СССР И. С. Звавич подчеркнул следующее: «Я должен отвести, как возмутительное и чернящее мою репутацию заявление, сделанное проф[ессором] А. С. Ерусалимским на заседании Ученого совета исторического факультета МГУ о том, что рецензия моя на книгу Л. Зубока – “написана не спроста”. Это заявление имело своей задачей, так как оно было произнесено, утверждать, будто бы эта рецензия написана по сговору с автором: это утверждение является, в лучшем случае, плодом больного воображения проф[ессора] А. С. Ерусалимского, или намеренной клеветой» (АРАН. Ф. 1702. Оп. 3. Д. 459. Л. 7–8). Далее И. С. Звавич отсылал к редакции журнала «Советская книга», которая могла бы описать реакцию на рецензию.
Судя по дальнейшей части заявления, И. С. Звавич стремился не только снять подозрения в содействии плагиату, но и четко обозначить свою собственную позицию в ситуации Л. И. Зубока. Репутация честного ученого также требовала соблюдения академического долга – стремления к истине. По этой причине И. С. Звавич подробно изложил случаи текстуального совпадения в результате сличения работ Е. В. Анановой и Л. И. Зубока, отметил невозможность последнего работать с историческими источниками и историографией из-за незнания европейских языков6.
Стремление И. С. Звавича отразить добродетельные намерения также связано с неспособностью Е. В. Анановой написать рецензию на работу Л. И. Зубока. Согласно И. С. Звавичу, в феврале 1949 г. Е. В. Ананова отметила следующее: «Я не могу писать рецензию. Когда книга вышла в свет, я была несколько дней больна. Зубок сделал выжимку из моей диссертации для своей книги и взял из нее все, что ему было нужно для своей главы. Я потеряла уважение к самому имени “профессор”. Неужели моя диссертация представляет собой такое достижение, что из нее потребовалось извлечь ее содержание. Разве два человека могут идти по одним и тем же тропинкам, одним и тем же источникам, повторяя друг друга?» (АРАН. Ф. 1702. Оп. 3. Д. 459. Л. 9–10). В ответ И. С. Звавич сообщил ей: «Знаете ли Вы что говорите? Ведь это обвинение очень серьезно. Я не могу отнестись к нему безразлично. <…> Раз у Вас есть такое мнение, я должен познакомиться с Вашей диссертацией и проверить, так ли это. Если это так, то следует довести об этом до сведения общественности» (Там же. Л. 9). Доведение до сведения общественности также рассматривалось как долг честного ученого. Публичное высказывание направлено на более широкий круг лиц, что меняет статус проблемы.
Разумеется, вопрос о репутации касался не только определенных ученых, но также научного учреждения в целом или отдельного подразделения. В докладном письме И. М. Майского и А. М. Деборина 1960 г. также вопрос плагиата требовал решения в «интересах поддержания доброго имени Института истории АН СССР» (АРАН. Ф. 1702. Оп. 3. Д. 476. Л. 18).
Заключение
Таким образом, создание специальных комиссий по рассмотрению обвинений в плагиате, а также обсуждение нарушений на собраниях можно рассматривать как реакцию ученых на конфликты, находящиеся на стыке академической этики и профессиональной. Проявление уважения к чужому интеллектуальному труду – норма и ценность как советского ученого в любом научном учреждении, так и отдельного исследователя как представителя профессионального сообщества.
На основе обнаруженных материалов удалось приблизиться к понимаю плагиата как феномена в советской научно-исторической среде, а также механизма работы комиссий, в которых рассматривались обвинения в некорректном заимствовании. Тем не менее остаются неизведанными вопросы о мотивации нарушителя: какие обстоятельства вынуждают исследователя к совершению плагиата и других «академических грехов»? С точки зрения академической и профессиональной этики плагиат является основательным отходом от важнейших принципов и стандарта научной деятельности. Ученый, осознанно заимствуя чужой интеллектуальный про- дукт, мог иметь личную заинтересованность. По этой причине требуется решение вопроса о соотношении цели исследователя и получении им блага.
Список литературы Плагиат в советской исторической науке второй половины 1940 - 1950-х годов
- Алеврас Н.Н. Диссертационная культура как историографический концепт // Уральский исторический вестник. 2014. № 4 (45). С. 111-120. EDN: SYTCCT
- Алеврас Н.Н., Гришина Н.В., Выдрин О.В. Диссертационная культура российских университетов XIX - начала XX века // Вестник Рос. фонда фундамент. исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2019. № 2 (95). С. 100-110. EDN: LDXMSX
- Груздинская В.С., Ковалев М.В. "Издание книги на немецком языке могло бы нанести за границей серьезный ущерб доброму имени советской науки": советские и чехословацкие антиковеды в споре о плагиате (1950-е гг.) // Россия XXI. 2021. № 2. С. 94-111. EDN: WUIFFQ
- Дубровский А.М. Власть и историческая мысль в СССР (1930-1950-е гг.). М.: Политическая энциклопедия, 2017. EDN: PGOUSA
- Емельянов Е.П. Творческий путь Н.В. Устюгова в контексте развития советской исторической науки: дис.... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2016. EDN: WXUGAD