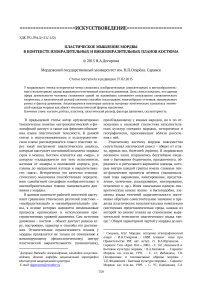Пластическое мышление мордвы в контексте изобразительных и внеизобразительных планов костюма
Автор: Догорова Надежда Александровна
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 1-3 т.17, 2015 года.
Бесплатный доступ
У мордовского этноса исторически четко сложились изобразительные (описательные) и внеизобразительные (скульптурные) планы выражения естественной плоскости движения. Цель статьи показать, что данная сфера деятельности человека становится одной из важнейших компонент визуального символического творчества, а пластический рельеф костюма способен воссоздавать многообразие оттенков танцевального ритма и фактур движения. Анализируются некоторые аспекты историко-эстетического комплекса этнической одежды мордвы как объект этнопластической формы мышления.
Костюм, ритуал, пластика, пластический рельеф, фактура движения, скульптурность
Короткий адрес: https://sciup.org/148102151
IDR: 148102151 | УДК: 391.394.3(=511.152)
Текст научной статьи Пластическое мышление мордвы в контексте изобразительных и внеизобразительных планов костюма
° В предыдущей статье автор аргументировал тематическое понятие «антропологический и философский диспут» в танце как феномен обновления языка пластической телесности. В данной статье в искусствоведческом и культурологическом ключе рассматривается смысл пластики через иной инструмент аналитического анализа, которым выступает костюмный комплекс мордвы (эрзя и мокша). Костюм изучается как «мера», в которую «укладывается» все тело исполнителя, начиная от манеры и положений корпуса, рук, головы до направления взгляда и выразительности «шага». Исторически это качество этнопла-стического мышления способствовало определению самобытной специфике изобразительных и внеизобразительных планов танцевального движения у мордвы.
В данном контексте рабочей гипотезой выступают сравнения этнических различий пластики – «изобразительный» и «неизобразительный» планы, в основе которых находятся неодинаковые процессы организации и использования пространственных уровней движения. Сам источник движения – костюм – объект диктует разную игру, настроение, характер и способы его достижения. Относительная ограниченность планов у мордвы проявляется не только по отношению к доминирующему (физиологическому) центру пластической выразительности (позвоночник),
Догорова Надежда Александровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры национальной хореографии Института национальной культуры.
преобладающему у южных народов, но и по отношению к языковой стилистике исполнительских культур соседних народов, исторически и географически, проживающих вблизи расселения с ней.
Этническому костюму мордвы повсеместно сопутствовал магический смысл – оберег от сглаза, дурных сил, болезней (прùток). В мордовском песенном эпосе сохранились богатейшие сведения о бытовании будничного, праздничного, обрядового и ритуального вариантов одежды, которые внутри каждой группы имели сложные психо-физические процессы деления (эмоциональный план выражения, имитирование, представление, увлечение, разыгрывание, изолирование, исцеление и др.). Имея изначально единую синкретическую основу жизне- и бытоподобия, элементы языка телесной выразительности постепенно обретали самостоятельное значение в пределах пластических исполнительских комплексов (костюмная представленческая среда, каждая из которой по своему влияла на становление выразительной телесности пластического языка танца) 1 . Общей характерной чертой у мордвы до нач.
ХХ в. выступало употребление «многослойного» стиля в костюмной обрядности.
В целом, говоря о традиционном женском комплексе мордовского костюма, следует отметить отсутствие в композиции верхней или нижней части одежды широты кроя (тогда как у русских, наоборот, бытовала широкая юбка; у морд-вы-каратаев, заимствовавших особенности кроя русского национального костюма, платье было гораздо шире по сравнению с остальными этническими группами мордвы). Мокшанка, преодолевая внешнюю скованность движения, подвязывала свое длинное платье, спускающееся значительно ниже уровня середины икры, на специальный пояс, формируя, таким образом, складки «навыпуск» в завышенном «мешкообразном» стиле и облегчая тем самым себе походку. Предположительно, в такой рубахе женщина уже не могла совершать широких размашистых движений руками, а линия шага замыкалась на монотонных («топчущий» ритм) вариантах пластического движения.
В отличие от мокшанской группы, визуальный ряд традиционного национального платья у женщины эрзянки, внешне выглядел гораздо шире и свободнее за счет дополнительных продольных полос, вшиваемых по бокам. Однако с изменениями социовозрастных критериев, в ее костюме появляются другие обязательные элементы традиционной одежды – этническое набедренное украшение – пулай. Доходивший до нескольких килограммов в весе, он способствовал развитию физиологических отклонений в аутентичных способах восприятия и воплощения пластики, а с другой – выступал важным историческим признаком в формировании пластического стиля и генетической фиксации языка танца.
Историко-этнографический анализ образцов ритуального костюма: от балахонов, халатов (у каратаев), нижних рубах и сорочек до «мешковых» интерпретаций (сàвон или òдрат), свидетельствует о том, что неподпоясанная ничем рубаха – самый распространенный пример рождения раннего выразительного жеста. Она была носителем сознательного выразительного уровня церемонии (использовалась на молянах, погребениях) и ни в чем не ограничивала пластику тела в движениях древнего сородича. Во время причитаний и выполнения молитвенных формул человек мог свободно размахивать руками, падать на землю, попеременно чередуя горизонтальновертикальные фазы движения корпуса со встава-
Знаковые функции народной одежды мордвы / Г.А.Корнишина. – Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т, 2002. – С. 42.
нием на колени, выпрыгиваниями, перекатываниями и др., в целом не характерными для концепции повседневности ритмическими формами и способами выражения окружающей действительности. Эти физико-физиологические отклонения, вызванные, прежде всего, активными фазами «сбивки» дыхания, действуют как изобразительно-выразительные диалекты внутри единого комплекса пластических движений. Они дополнительно расширяют возможности фактуры пластического рельефа до границы, выходящей за пределы традиционного понимания времени и тела. В данных обстоятельствах ритуальных действ устанавливаются «новые» формы и структуры познания пространства, проявляемые как процессы восприятия и создания естественных пластических образов.
Определено, что появление новых элементов в культуре пластического выражения и ритуальных способах поведения в рамках изобразительных планов костюма вызвано постепенным приобретением в символической деятельности человека (фонологические и визуальные комплексы коммуникаций) «симптомов» аналитического значения. Именно экологическая среда ритуального костюма, с одной стороны, выступает новым условием, а с другой – сама создает эти необходимые средства для совершенствования человеческой деятельности в сфере пластического движения. Теперь уже внутри единой группы компонентов пластического мышления (например, в методах «чисто» фонологической среды – песенной, звуковой, голосовой, словесной, декламационной или «чисто» визуальной – танцевальной) можно выделять специфические уровни бытования пластических исполнительских структур. Первое – «описательность» жизнеподобия («что вижу, то и воспроизвожу»), второе – «скульптурность» (значения коммуникативных планов). Последнее обстоятельство пластической телесности («скульптурность») неразрывно соотносится с задачами анализирования человеком обитаемого пространства и формируемой им самим социокультурной действительности через психофизические структуры реагирования – наблюдение, повторение, запоминание, фиксирование и передача информации. Выделяются и такие механизмы работы психического сознания, как энергия отражения движения. «Скульптурность», в отличие от «описательности» (только изобразительный план действий), проецирует различные стороны жизни логического образа (а не только естественного биологического). Это такие признаки психофизических действий, благодаря которым человек создает «формы – отношения» к окру- жающей действительности: гнев, разочарование, радость, страх, боль, опустошение и т.д.
Внеизобразительные структуры ритуальной одежды позволяют интерпретировать сознание человека как вышедшее за пределы понимания сакрального и неприступного содержания - «табу». Поэтому «манипулирование» процессами психофизики в актах одевания ритуальной одежды куда более сложное явление, чем кажется на первый взгляд. Так, феномен ритуального панара объединяет в себе как минимум три аспекта языка телесной выразительности, в основе которого лежит мотив «исцеления»: 1) исцеление себя, 2) исцеление пространства и времени, 3) исцеление самих участников моления, следуемые месту события, условиям восприятия окружающей природы, обстоятельствам состояния погоды. Подобное осмысление пространственно-временной и пластической организации телесности можно интерпретировать в искусствоведении как феномен культурного события этноса, растянутого в антропологическом и историческом времени -«безактерские» исполнительские практики2.
MORDVA PLASTIC THINKING IN THE CONTEXT OF GRAPHIC AND EXTRA GRAPHIC PLANES OF A COSTUME
Список литературы Пластическое мышление мордвы в контексте изобразительных и внеизобразительных планов костюма
- Смирнов, И.Н. Мордва: историко-этнографический очерк/И.Н.Смирнов/НИИ гуманит. наук при Правительстве РМ; авт. вступ. ст. В.А.Юрченков. -Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2002. -С. 161
- Балашов В.А. Бытовая культура мордвы/В.А.Балашов. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1991. -С. 12
- Федянович, Т.П. Похоронные и поминальные обряды мордвы/Т.П.Федянович/Бытовая культура мордвы. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1989. -С. 97
- Корнишина, Г.А. Знаковые функции народной одежды мордвы/Г.А.Корнишина. -Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т, 2002. -С. 42.
- Воронина Н. И. Танцевальная пластика мордвы как феномен портретной визуализации этнографического текста/Н.И.Воронина, Н.А.Догорова//Известия Самарского научного центра РАН. Т. 17. -№ 1. -2015. -С. 250 -254