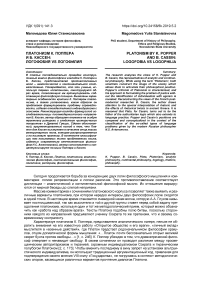Платонизм К. Поппера и Б. Кассен: логофобия vs логофилия
Автор: Магомедова Юлия Станиславовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье последовательно проведен конструктивный анализ философских взглядов К. Поппера и Б. Кассен, представителей противоположных школ - аналитической и континентальной соответственно. Утверждается, что эти ученые, используя термин «платонизм», конструируют образ врага, позволяющий им артикулировать собственную философскую позицию. Выявлены характерные особенности критики К. Поппером платонизма, а также установлено, каким образом он предлагает формулировать проблему справедливости, избегая отождествлений индивидуализма с эгоизмом. Реконструируя взгляды французской исследовательницы постмодернистского направления Б. Кассен, автор обращает внимание на особую трактовку риторики и следствия «риторических поворотов» в Древней Греции. Сделан обоснованный, аргументированный вывод о том, что Платон для Кассен выступает в качестве отца логики авторитарного типа, которая распространяется и на языковую практику. В контексте классификации так называемых типов проблематики языка, заданных современным отечественным философом Н.С. Автономовой, автор сопоставляет и концептуализирует позиции Поппера и Кассен.
К. поппер, б. кассен, платон, платонизм, аналитическая философия, континентальная философия, логология, риторика, философия
Короткий адрес: https://sciup.org/149133974
IDR: 149133974 | УДК: 1(091):141.3 | DOI: 10.24158/fik.2019.5.2
Текст научной статьи Платонизм К. Поппера и Б. Кассен: логофобия vs логофилия
Сегодня продолжается борьба за конкуренцию двух логик философского мышления и комментария: логики репрезентации и логики различия. Это противопоставление соответствует дистинкции – аналитической и континентальной философской мысли. Их отношения варьируются от мирной беседы до слепой неприязни.
Массив комментариев к сочинениям платоновского корпуса позволяет также выявить и различные варианты платонизма, при котором нередко интересы двух философских логик сходятся в одной точке. В настоящее время становится очевидной некая волна, которую А.А. Глухов называет постницшеанской, так как мыслители и той и другой группы ставят перед собой задачу преодоления платонизма, используя один и тот же методологический прием, который можно обозначить как «работа над образом врага». Тексты Платона подобны полю битвы, поскольку сторонники каждого из направлений предъявляют ученику Сократа те же претензии, что и своему современному контрагенту.
Характеризуя платонизм К. Поппера, представителя аналитического лагеря, нельзя не обратить внимания на его известную работу «Открытое общество и его враги», «личный вклад» мыслителя в «военные действия», где Платон предстает родоначальником философии оракулов, отцом догматической формы мышления: «…Платон почти бессознательно открыл великий секрет бунта против свободы…» [1, с. 246]. К. Поппер убежден в том, что древнегреческий философ отвергает и ненавидит свободу. В своем сочинении он проводит различие между просвещенческим авторитаризмом и тиранией, скромным индивидуализмом Сократа и тираническим полубогом Платоном [2, с. 173]. Чтобы вменить последнему в вину запрет на установки альтруистического индивидуализма, он использует традиционный аргументационный ход, привлекая для подтверждения своего мнения VIII книгу «Государства», не погружаясь в контекст методологических споров, касающихся различных вариантов прочтения диалогов Платона.
Методологическая стратегия Поппера – это системная рациональная реконструкция. По его мнению, чтобы понять Платона, необходимо пользоваться антиэссенциалистским языком, задавать «рациональные вопросы» [3, с. 149]. По итогам критической работы должна быть представлена стройная конструкция. Диалогическое прочтение трудов древнегреческого мыслителя, приверженность которому демонстрируют многие историки философии, не интересует Поппера [4]. Он уверен в том, что метафизические чары Платона находятся в тесной связи с логическим анализом псевдопроблем.
На основе анализа термина «индивидуализм» Поппер устанавливает, что, «по Платону, единственной альтернативой коллективизму является эгоизм. Он просто отождествляет индивидуализм с эгоизмом. Дело не только в словах: ведь вместо четырех возможностей (индивидуализм – коллективизм, эгоизм – индивидуализм. – Ю. М. ) Платон различал только две. Это внесло огромную неразбериху в рассуждения по этическим проблемам, что ощущается даже сегодня» [5, с. 139]. Тем не менее и Поппер, осуществляя подобную гигиену смысла, пользуется принципом селекции, оставляет прогрессивную пару терминов «альтруизм/индивидуализм» [6, с. 100]. Можно утверждать, что в целом он выступает против представителей «континентального» крыла (М. Хайдеггера, Э. Гуссерля, К. Ясперса), критикуя Платона за «элементы мистики и суеверия», «иррациональные, фантастические и романтические элементы платоновского анализа» [7, с. 120].
Поппер, распутывая при помощи логического аппарата неправомерные, по его мнению, отождествления, настаивает на новой формулировке политических вопросов, чтобы логически противопоставить справедливость и личность правителя. Нельзя не согласиться с положением о том, что «требуется на место вопроса “Кто должен править?” поставить другой вопрос: “Как нам следует организовать политические учреждения, чтобы плохие или некомпетентные правители не нанесли слишком большого урона?”» [8, с. 161]. Поппер приходит к категоричному выводу. Он считает, что отождествление справедливости и правителя, индивидуализма и альтруизма стало:
-
1) основным заблуждением западной цивилизации;
-
2) ядром христианства;
-
3) основой практического учения Канта;
-
4) мощным инструментом влияния на нравственное развитие человечества.
Итак, «чары Платона» мешают прогрессу западной цивилизации. Платон – тиран и предатель, паразитирующий на языке. Именно такой образ врага конструирует Поппер. Критикуются непоследовательность, метафоричность, эзотеричность платоновского стиля письма, анализа проблемы справедливости. Критике подвергается и логика различия, которая должна подчиниться логике репрезентации. Учитывая четыре выделенных Н.С. Автономовой [9] типа проблематики языка, целесообразно, на наш взгляд, квалифицировать вариант Поппера в аспекте типа «формализация», для которого характерна логофобия – «язык истончается до чистого логического каркаса мысли». В этом случае, по определению Н.С. Автономовой, язык выступает как нечто, доступное управлению и подчинению. Согласно Попперу, миссия философов состоит в том, чтобы «заменить утраченную магическую веру рациональной верой», преодолев закрытость общества [10, c. 234], т. е. логика природы, принцип селективности уступают место логике закона, рациональности. Нравственный прогресс должен догнать прогресс естественно-научный. Однако нам кажется, что данная позиция в отношении философского языка, которую демонстрирует Поппер, интерпретируя Платона, по своей сути авторитарна.
Следуя логике Поппера, средством достижения открытости служит коммуникация, подразумевающая красочное использование языка. Табу на «иррациональность» позиционируется при этом как репрессивное действие. «Иррациональному» отводится строго определенное место – мир культуры. Однако голос из этого «третьего мира» на политической арене вряд ли будет услышан. Невольно возникает вопрос, возможно ли будет отличить политическую речь от поэтической. Речь в любом случае должна проходить фильтр формализации.
Рассмотрим платонизм Б. Кассен – известного французского исследователя, автора значимого проекта «Европейский словарь непереводимостей». Образ врага намечается через противопоставление философской и софистической логики. В работе «Софистическая практика: о содержании релятивизма» Кассен описывает «риторические повороты» в Древней Греции [11]. Каждый из этих «поворотов», по ее мнению, является ступенью к «онтологическому национализму», одноязычеству, унификации, платонизму.
Первый «риторический поворот» связан с обособлением философии, фиксацией некой метапозиции по отношению к софистам. Так, при исследовании вопроса о происхождении риторики часто встречается точка зрения, в соответствии с которой риторика восходит к софистической практике, постепенно совершенствовавшейся. Действительно, о том, что риторика начиналась с софистов, говорят многие исследователи, в том числе Ролан Барт, Джордж Кеннеди, Джон Пулакос [12].
Риторику связывают с трактатами Коракса и Тисия – старших софистов, составивших теорию и правила судебного красноречия для сограждан (сицилийцев), что помогло выиграть судебный процесс против тиранов Гиерона и Гилона (криминалистическая речь); с посольством Горгия, пытавшегося убедить афинян не воевать против Сицилии (совещательная речь); с моментом, когда Горгий в публичном выступлении оправдывал Елену (эпидейктическая речь); со многими учителями и законодателями, которые путешествовали из города в город. С учетом массива этих свидетельств можно констатировать, что риторика появилась очень рано и была связана с практикой обучения. Софисты же оказываются ораторами и риторами, что обозначается одним греческим словом rhetores. Но поскольку практика только нарабатывается, софисты «еще не» риторы, как флогистон еще не кислород.
Об этом пишет Аристотель в заключительной части «Софистических опровержений»: «Поэтому обучение ими учеников было быстрым, но бессистемным. Поскольку они полагали, что можно обучать, передавая ученикам не само искусство, а результаты искусства, точно так же, как если бы кто-нибудь обещал передать знание того, как избавляться от боли в ногах, и после этого не обучал искусству сапожника и способу, каким можно изготовлять такую обувь, а предложил бы целый набор всевозможной обуви. Он, конечно, удовлетворил бы просьбу, но не научил бы искусству» [13].
Подобную оценку софистов, тех, кто только предлагает товар, но не вполне осознает, каким образом он изготавливается, Б. Кассен подвергает критике и называет «предвзятой», «строго философской», «чисто платоновско-аристотелевской». Она утверждает, что риторика – это философское изобретение [14, p. 76]. С первым так называемым риторическим поворотом «философия укротила ( tamed ) логосы» благодаря тому, что сама создала риторику. И фактически этот первый «риторический поворот» оказывается философским.
Кассен соглашается с Эдвардом Скьяппой в том, что именно Платон изобрел риторику. Скьяппа использует глагол coin со значением ‘чеканить’, ‘фабриковать’, подчеркивая связь Платона с софистами [15]. Кассен доказывает, что до написания платоновского диалога «Горгий» (около 385 г. до н. э.) не зафиксировано случая употребления термина «риторика». Подзаголовок этого диалога - «О риторике» ( e peri rhetorikes) [16, p. 77], а для описания практики софисты использовали термин «логос» ( возможно, за исключением Алкидама, ученика Горгия). Французский философ считает, что Платон придумал термин «риторика», как и термины «эристика», «антилогия», «диалектика» и, возможно, «софистика». Она усматривает ряд скользких эквивалентностей. Риторика - это не наука ( episteme ), не искусство (tekhne ), а некая эмпирическая практика, tribe (от греч. tpi^Eiv - ‘тереться’). С онтологической точки зрения риторика - это eidolon , подражание, призрак эйдоса, а с этической - это коЛакыа, форма лести, что плохо как для состояния души, так и для тела. Б. Кассен приводит следующую схему:
1 2 1’ 2’ законодательство правосудие гимнастика медицина (eidos, искусство/эпистема)
софистика риторика косметика кулинария (eidôlon, лесть)
Данная схема свидетельствует о том, что пропозиции 1, 1’ выражают норму и структурирование: образ жизни, режим. Пропозиции 2, 2’ выражают корректирующие элементы, зависимые от обстоятельств, служащие средствами защиты: риторика менее ценна, чем софистика, а справедливость менее ценна, чем законодательство.
Второй «риторический поворот» Б. Кассен называет собственно риторическим, при котором устанавливается связь риторики и социальной практики. Этот поворот осуществлен собственно риторикой и ради нее. Объясняя, почему целесообразно оставаться с Платоном, а не опираться на более поздний материал (Цицерона, Квинтилиана, Филострата), французский исследователь пишет о том, что древнегреческий мыслитель способен озвучивать софистов более поздних, отразить их мнение наиболее ярко. В лице платоновских софистов риторика отражена лучше всего.
Отправной точкой для Б. Кассен является диалог «Протагор» с подзаголовком «Софисты». Она приводит протагоровский вопрос, адресованный Сократу: «Подумай вот о чем: существует ли нечто одно, в чем необходимо участвовать всем гражданам, если только быть государству?» (324 E). Ответа два: сначала при помощи мифа, а затем – логоса. При интерпретации мифа ученый приходит к выводу, что Зевс одаривает людей политикой. В ее переводе aidos и dike - это ‘стыд’ ( shame ) и ‘справедливость’, ‘уважение закона, права’ ( respect, justice, right ) [17, p. 84]. В этом сценарии aidos и dike являются социальными границами. Ни дар речи, ни религия не помогают. Таким образом, норма приходит извне в качестве дополнения, как этическая ценность, данная «позорной цивилизации».
Б. Кассен обращает внимание и на странное противоречие, возникающее в конце мифа. Зевс приказывает всем быть причастными к aidos и dike, а одновременно - «чтобы всякого, кто не может быть причастным, убивать как язву общества [ton me dunamenon... metekhein]» (322 D). Протагор указывает на Афины, где каждый гражданин вправе принимать участие в политических дискуссиях. Афинская isegoria означает, что «всякому подобает быть причастным к этой добродетели, а иначе не бывать государствам» (323 A), т. е. специалистов в политике быть не может. Протагор предлагает еще одно доказательство: «Если кто скажет про себя, что он хороший флейтист, или припишет себе какое-нибудь другое мастерство, какого у него нет, то его либо поднимают на смех, либо сердятся, и даже домашние приходят и увещевают его как помешанного. Когда же дело касается справедливости и прочих гражданских добродетелей, тут даже если человек, известный своей несправедливостью, вдруг станет о себе говорить всенародно правду, то такую правдивость, которую в другом случае признавали рассудительностью, все сочтут безумием» (323 B).
Б. Кассен такое долженствование называет иллокутивным актом. Если вы не справедливы, намерение сказать обратное делает вас частью сообщества. Подлинная модель политического совершенства – это hellenizein (327 E). Глагол содержит четыре значения: говорить по-гречески, говорить хорошо, чтобы хорошо думать и участвовать в греческой культуре. Все, кто отличается от barbarizein (слово, происходящее от звукоподражания «бла-бла-бла», которое, как полагали, характеризовало всю не греческую речь, а иную), начиная с младенческого возраста учили hellenizein , политическую добродетель (328 А) [18].
Указанный выше исследователь критикует этот селективный подход, доказывая, как Платон посредством мифа об Эпиметее и Прометее внушает миф о королях-философах: «Известно, что греки блаженно игнорировали множественность языков, – они были горды одноязычеством настолько, что эллинизировали, т. е. «говорили по-гречески», «правильно говорили», что означало также «мыслить и действовать как цивилизованный человек», в отличие от «варварство-вать», что яростно объединяет чужака, неразборчивого и бесчеловечного» [19, p. 248]. По мнению Кассен, этот «онтологический национализм» закрепился в традиции философствования. Ее проект – «Европейский словарь непереводимостей» – это софистическая логология, погруженная во множество языков [20, p. 249]. Язык трактуется французским автором исключительно как различие между языками, а перевод – как герменевтика. Она, филолог, приводит метафору Трубецкого, который обнаруживает в том или ином языке «радужную сеть», так что каждый из нас вытягивает такую рыбку, которая соответствует размеру его собственной сети – философы лишь находят следы означающего, непереводимой «материальности» и «тела» языка. Закон непротиворечия, сформулированный Аристотелем, запрет на омонимию – это «натиск значения» [21].
В современном мире Б. Кассен наблюдает риск сговора между прагматичным эсперанто и языком культуры. Конструируя образ врага, она видит один выход – изменение отношения к языку. Логофобия должна уступить место логофилии. По ее мнению, риторические практики позволят достичь открытости, о которой мечтал австрийский и британский философ, социолог К. Поппер. Таким образом, с различных сторон «атакуя» Платона и фактически создавая концепт (платонизм), представитель аналитического лагеря К. Поппер и французский исследователь Б. Кассен, продолжающая традиции континентальной философии, преследуют похожие гуманистические цели – найти противоядие от насилия любого рода.
Ссылки и примечания:
которые способны создать общество. Кассен делает вывод: политика оказывается делом логоса, в частности риторики. Cassin B. Op. cit. P. 85.
Список литературы Платонизм К. Поппера и Б. Кассен: логофобия vs логофилия
- Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. Т. 1. Чары Платона. М., 1992. 448 с.
- Глухов А.А. Перехлест волны. Политическая логика Платона и постницшеанское преодоление платонизма. М., 2014. 584 с.
- Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность: монография. М., 1988. 287 с.
- Cassin B. Sophistic Practice: Toward Сonsistent Relativism. N. Y., 2014. 384 p.
- Barthes R. The Semiotic Challenge. Berkeley, 1994. P. 11-94.
- Kennedy G. The Art of Persuasion in Greece. Princeton, 1963.
- Poulakos J. Sophistical Rhetoric in Classical Greece. Columbia, 1995.
- Aristotle. On Sophistical Refutations. L., 1955. 429 p.
- Schiappa E. Did Plato Coin Rhêtorikê? // American Journal of Philology. 1999. Vol. 111. P. 457-470. DOI: 10.2307/295241