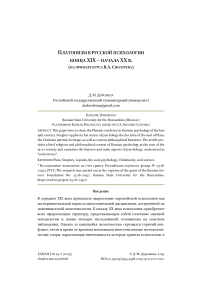Платонизм в русской психологии конца XIX – начала XX в. (на примере курса В.А. Снегирева)
Автор: Д.М. Дорохина
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.19, 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье предпринята попытка показать платоническую тенденцию в русской психологии конца XIX века. В своём курсе психологии Снегирев опирается на учение Платона о душе, наследие христианских патристик, а также современную философскую литературу. В статье дан краткий религиозно-философский контекст русской психологии рубежа XIX–XX веков, рассматриваются особенности и основные аспекты психологии, понимаемой как «наука о душе».
Платон, Снегирев, Лопатин, душа, психология, христианство, наука о душе
Короткий адрес: https://sciup.org/147251478
IDR: 147251478 | DOI: 10.25205/1995-4328-2025-19-2-1010-1020
Текст научной статьи Платонизм в русской психологии конца XIX – начала XX в. (на примере курса В.А. Снегирева)
В середине XIX века произошло закрепление европейской психологии как экспериментальной науки и самостоятельной дисциплины, построенной на позитивистской эпистемологии. К началу XX века психология приобретает ясно оформленную структуру, представляющую собой сочетание научной методологии и новых методик исследований, основанных на опытном наблюдении. Однако за кажущейся целостностью скрывался горячий конфликт, тлели и время от времени вспыхивали многочисленные методологические споры, нарастающая интенсивность которых привела психологию к
«открытому кризису» уже в первой трети XX века. Борьба одних методологических принципов против других – конфликтность такого рода была имплицитно присуща научной парадигме, начавшей складываться еще на заре Нового времени. Родоначальник эмпиризма Френсис Бэкон, занятый переосмыслением античного и, прежде всего, аристотелевского наследия, провозгласил парадигмальный отказ от изучения природы души, а взамен предложил перейти к эмпирическому исследованию и описанию психических способностей и процессов. Этот этап в истории науки можно считать моментом зарождения позитивной психологии, а именно той линии науки о душе, которая обретет научную монополию к началу XX века. Начавшись с отказа от изучения природы души, поведенческая психология пришла к решению отвергнуть понятия сознания и психики, выработанные в рамках ее собственных условий. Как замечает С. Л. Рубинштейн, конфликт к ХХ веку зацикливается и достигает явной абсурдности, поскольку эмпиристы атакуют свои же собственные принципы1.
Религиозно-философский контекст русской психологии
История досоветской психологии до сих пор не получила полного официального изложения и, как правило, не включается в современные учебные курсы по истории психологии. В период формирования советской научной психологии тема находилась под идеологическим запретом, а в тот момент, когда запрет был снят, уже перестала быть актуальной и не вписалась в научный дискурс. Тем не менее представляется, что досоветская психология сегодня обладает большим потенциалом с философской точки зрения, поскольку предлагает альтернативную постановку вопросов о душе, о субъекте душевной жизни, о психических состояниях и процессе познания.
Уже в XVII веке в Киево-Могилянской академии читаются курсы по психологии. С 1639 г. по 1693 г. монахи и богословы создают корпус текстов, который вплоть до XIX века будет оказывать влияние на преподавание психологии.
Первый законченный систематический труд по психологии, «Наука о душе», появляется в 1796 г., его автор – диакон русской православной церкви Иван Михайлович Кандорский. Автор производит систематизацию знаний о психической жизни в религиозно-духовном контексте, с привлечением текстов Священного писания. На всем протяжении XVIII века и в течение значительного периода XIX века в психологии будет ощущаться богословское влияние, даже у авторов, развивающих научную рационалистическую парадигму. В работах этого периода часто поднимается тема бессмертия души, поскольку прежде всего через эту тему раскрываются принципы духовной жизни и взаимоотношений с Богом.
Когда … мы точно уверены в бессмертии нашей души, то научаемся, во-первых, оным уверением познавать величество свойств творца нашего, потом в особенности бесконечную его премудрость, благость и правосудие, и признавать оные с величайшим благоговением и благодарностью2.
В 1833 г. в Киевской духовной академии в рамках «борьбы со схоластическим формализмом» начинается систематическое преподавание психологии. В 1834 г. выходит работа Александра Ивановича Галича «Картина человека, опыт наставительного чтения о предметах самопознания для всех образованных сословий». Книга стала событием в научной жизни того времени. Впоследствии антропологический подход Галича развивал Б.Г. Ананьев в рамках петербургской психологической школы. К 90-м годам XIX века складывается два психологических направления – экспериментальный подход И.М. Сеченова и духовно-ориентированная психология Н.Я. Грота и Л.М. Лопатина. В этот же период выходит целый ряд крупных работ на религиозно-психологические темы – в частности, статья В.С. Серебреникова «Само-откровение духа как источник его познания».3 Автор настаивает на том, что с психологической точки зрения человека нужно рассматривать как образ Божий, а не как животное, – только в этом случае возможно получить решение психологических проблем. В 1912 г. открывается первый в России Психологический институт (третий психологический институт во всем мире), таким образом, можно сделать вывод о том, что к началу XX века в отечественной науке идет активное и успешное развитие психологии как науки.
В работе Юрия Михайловича Зенько «Трехвековой диалог психологии и религии в России» описана история отечественной психологии до первой четверти XX века. Проведя значительный источниковедческий анализ, автор делает вывод о том, что на рубеже веков произошел расцвет науки о душе, отличной от материалистической и рационалистической западной психологии. В основном работы психологов того времени опираются на святоотеческое наследие и античную философскую мысль, то есть помимо христианских истоков русская психология рубежа веков имеет еще и очевидные платонические мотивы.
В этом плане интересно рассмотреть курс психологии Вениамина Алексеевича Снегирева, смысловое ядро которого построено на платонической философии. Автор привлекает довольно широкий круг историко-философского материала, актуализируя психологическую тематику в работах разных исторических периодов. Однако структура курса четко указывает на платоническую ориентацию всего исследования.
Курс психологии В.А. Снегирева
«Систематический курс чтений по психологии» В. А. Снегирева вышел в 1893 г., уже после смерти автора, и сразу получил положительную рецензию в «Вопросах философии и психологии». Курс преподавался в Студенческом психологическом обществе при Санкт-Петербургской духовной академии4. Работа относится к периоду становления научной психологии и представляет собой попытку объяснить душевные явления с точки зрения объективной науки, то есть через материальную природу и связь психики с телом. Однако структурно курс строится на религиозно-философских основаниях и восходит к святоотеческой мысли. Структура курса определяется христианским (и платоническим в своей основе) подходом к пониманию самого предмета психологии, что существенно отличает его от общепринятого сегодня в научной среде.
Во вступительной части автор делает экскурс в психологическую литературу. Историю психологии он ведет с античности, указывая четыре «психологических» диалога Платона («Федон», «Тимей», «Федр» и «Теэтет») и сочинение Аристотеля «О душе». Затем через неоплатонизм ведет линию к святоотеческой литературе. Снегирев критически относится ко всей предшествующей традиции философской психологии. Стоит отметить высокую степень знания философской литературы, трезвую и взвешенную оценку предшествующих концепций, но самое главное – зрелое целостное мировоззрение мыслителя, которое послужило необходимым условием для формирования его собственного подхода, в котором интегрируется философский материал и актуальное для того времени научное знание.
Оговоримся, что сегодняшний научный позитивистский подход провозглашает концептуальный отказ от души как предмета исследования. Вместо учения о душе была сконструирована концепция психики как синтетического объекта, в котором соединились представления о духовной и материальной природе человека. Однако духовная природа требует сложного метафизического исследования, ее изучение не поддается количественным методикам и не отвечает критериям экспериментальной воспроизводимости. Поэтому в истории психологии отчетливо просматривается тенденция, в соответствии с которой основное внимание все больше уделяется материальной природе человека. В XX веке это фактически привело к трансформации психологии во френологию и нейробиологию. И сегодня это направление все еще играет главенствующую роль.
Уникальный подход В.А. Снегирева дает пример психологической науки, построенный на принципиально иных основаниях, за счет чего предлагается объемный и сложный взгляд на человека и его внутреннюю жизнь. Более того, сегодня мы можем говорить об оригинальном направлении духовноориентированной платонической психологии, сложившейся к концу XIX века в Российской империи. Сам автор высоко оценивал потенциал отечественной науки своего времени в этой сфере:
Русскую психологическую литературу без преувеличении можно назвать очень богатою и согласиться с мыслью, которую недавно высказал один писатель, что психологии в России посчастливилось, и что есть надежда на дальнейшее, более самостоятельное развитие этой науки5.
Еще одним ярким примером духовно-ориентированной психологии выступает Лев Михайлович Лопатин. В курсе психологии 1903 г. он, в частности, определяет психологию как «душеведение», поскольку основной задачей психологии является исследование того, в чем заключается сущность души и что обуславливает ее существование, а также какому миру принадлежит душа по своей природе6. Лопатин фиксирует смену фокуса психологической науки, в результате которой психологи забывают о субъекте душевных явлений и сосредотачиваются на обезличенной феноменологии. Но если мы вернемся к античной традиции, то увидим, что, с точки зрения Платона, душа есть присутствие вечного, божественного, бессмертного в человеке; душа есть «вечный и самодвижущийся источник жизни, внутренне сродный бестелесному миру идей»7.
Согласно мысли Платона, индивидуальная душа связана с Мировой душой, в тоже время индивидуальная душа связана и с телом. Именно эта сложная связь делает весь чувственный мир живым и одушевленным.
Итак, общеизвестно, что, по Платону, душа состоит из трех частей: вожделеющей, яростной и разумной. Все части души должны находиться в гармоничном единстве, которое достигается, если разумная часть управляет двумя другими. Сходное представление об устройстве души находим у святых Отцов, которые выделяют три способности души: мыслительную, ассоциируемую с умом, раздражительную, ассоциируемую с волей, и желательную, ассоциируемую с чувствами.
Трем силам души мы должны давать движение правильное, сообразное с их естеством и согласное с намерением создавшего их Бога. Именно: силу раздражительную надобно подвигать против внешнего нашего человека и против змия – сатаны … Силу желательную надо устремлять к Богу и добродетели, а мысленную поставим госпожою над обеими ими, чтобы с мудростию и благоразумием упорядочивала их, вразумляла, наказывала и начальствовала над ними, как царь начальствует над подданными. И тогда сущий в нас разум по Богу будет управлять ими (то есть когда будет господствовать над ними, а не им покоряться)8.
В.А. Снегирев, описывая устройство души, также описывает три части. Первая часть души включает «разумную совокупность познавательных деятельностей», вторая – «совокупность страстных возбуждений, или аффектов», третья – «совокупность чувственных потребностей или желаний»9. Таким образом, можно говорить о едином традиционном представлении об устройстве души, которое от Платона через православное вероучение в качестве смыслового ядра переходит в основу образовательного курса по психологии.
Итак, в курсе «Психологии» В.А. Снегирева – две части. Первая часть посвящена основным душевным состояниям и процессам, здесь описываются первичные «элементы» душевной жизни. Знаменательно, что автору удается акцентировать переход между сугубо душевным и физическим, проходящий через ощущения.
Во второй части излагается процесс «высших деятельностей» души. Части построены по принципу подобия – элементарные состояния ассоциированы со сложными комплексами психических деятельностей. Обе части следуют принципу иерархичности частей души, а также, по нашему предположению, соотносятся с платоновской онто-гносеологической моделью, символически представленной в образе «разделенной линии» ( R . 510).
«Душеведение»
В основе психической жизни человека лежат «душевные состояния», под которыми Снегирев понимает самые базовые, первичные изменения души – волнение , стремление , идею . Это статические состояния, предположительно возникающие как следствия самонаблюдаемых ощущений. То есть душа через тело испытывает ощущение, наблюдает его, в результате чего формируется некоторое статическое состояние. Состояния вплетаются в сложные процессы, а те, в свою очередь, формируют уже сложные комплексы, обеспечивающие «высшие деятельности». Отдельная роль в концепции Снегирева отведена ощущению, которое является предпосылкой к активизации душевных состояний, очевидной и верифицируемой точкой отсчета психической жизни.10 Ощущения невозможны вне воздействия внешнего мира. Все остальные душевные состояния лишь косвенно зависят от внешнего физического мира и представляют собой или полноценные проявления жизни души, или отражения вещей мира, интроецированные идеи.
Так понятое, ощущение — одно из всех душевных состояний имеет чисто материальную причину, недоступную прямому внутреннему наблюдение, хотя само, по своему содержанию и изменениям, лежит целиком в сфере этого наблюдения, как состояние души, явление сознания11.
Как уже было сказано, душа переживает состояния тех типов, в соответствии с которыми можно выделить разные уровни (само)познания. Первый уровень – «вожделеющей» части души (желательная способность души в святоотеческой традиции), на этом уровне душа познает посредством уподобления ( эйкасия ).12 У Снегирева к этому уровню относится чувствование, или чувство-волнение:
Оно есть сознание впечатления, производимая на душу самим ощущением, как ее деятельностью и изменением, – сознание, связанное с непосредственной оценкой этого изменения, как бы с признанием его хорошим или дурным, что выражается сознанием приятности или неприятности13.
Эта способность души ближе всего к чувственному миру и к ощущениям. Именно на этом уровне происходит интроекция образов и идей внешнего мира, то есть процесс уподобления внутренних образов вещам внешнего мира. Эта часть души создает связь с другими индивидуальными душами и миром как таковым. Поэтому именно эта часть души требует наибольшего очищения (после взаимодействия с внешним миром) и устойчивой связи с разумной частью души и контроля с ее стороны14.
Следующий уровень – «страстная» часть души (в святоотеческой традиции это раздражительная способность); на этом уровне душа познает посредством убежденности ( пистис ), в определенных случаях можно говорить также об аффективной убежденности, страстной вере, одержимости целью. Снегирев называет это состояние души стремлением . Аффективные состояния здесь возникают в том случае, если эта часть души направляется вожделеющей частью, а не разумной.
В своем существе оно есть сознание недостатка, нужды, потребности в чем-нибудь, и тесно связано с двигательным импульсом, а в самом начале душевной жизни обыкновенно прямо переходит в инстинктивное движение15.
Следующее состояние души, по Снегиреву, – это возникновение образа или первоначальной идеи («разумная» часть души и у Платона, и в христианской психологии). Это рассудочный уровень познания души ( дианойа ) – уровень дискурсивного мышления, в результате которого рождается мнение.16 Это итоговый акт простейшего процесса интернирования вещи внешнего мира в образ и итоговый акт простейшего самонаблюдения.
Словом «идея» обозначается, далее, воображаемый тип предмета, план его, имеющий, по взгляду Платона и его последователей, реальное, отдельное от предмета бытие. Этим словом называется всякая, даже сложная, мысль, когда она только нарождается и не имеет определенности, например в часто употребляемой фразе — «у меня есть идея, у меня родилась идея». <...> Точный и собственный психологический смысл слова «идея» тот, что им обозначается след ощущения, или комплекс, сочетание этих следов, не относимых еще ни к чему объективному, а являющихся простыми копиями чисто субъективных изменений, возникших прежде этого под влиянием реальных возбуждений17.
Описанные душевные состояния характеризуются автором как статичные, однако они находятся в постоянных сложных отношениях внутри души и с внешним миром. Результатами этих взаимоотношений становятся душевные процессы: сознание, творчество, внимание и память. Находясь в постоянной циркуляции, описанные состояния и процессы приводят психику в подвижное состояние, состояние оживления, гармоничного (само)познания. О душе, которая корректно проживает все этапы, не блокируя ни один из процессов, можно говорить как о живой душе . В данном случае мы имеем дело с единством , то есть с психической нормой.
Вторая часть курса посвящена «высшим деятельностям» души, и построена она по подобному принципу, но теперь автор рассматривает уровни души в иной последовательности: сначала «ум» (разумную часть), затем «сердце» (вожделеющую часть) и, наконец, «волю» (страстную часть). Все это в единстве (вместе с простыми состояниями и процессами) составляет единый «душевный организм».
И ум, и сердце, и воля здесь представляет собой сложные комплексы душевных явлений и деятельностей. Автор настаивает на целостности души, которая является живой силой всех этих процессов. О том, чтобы воспринимать символические «части» души разрозненно как физические органы, не может быть и речи. Душа едина и неделима – этот платонический принцип, с точки зрения Снегирева, является необходимым основанием для построения научной психологии.
Психология ограничивается только разложением и отношением явлений умственных, решает вопрос о том, как они возникают и совершаются. Все исследование ума в ней должно иметь в общих чертах такой вид: 1) учение о различении субъекта и объекта, или образование идей «я» и «внешнего»; 2) учение о восприятии (опыте) и представлении; 3) общая идея, или понятие; 4) суждение и умоза-ключение18.
Таким образом, под умом понимается сложный психический механизм, основной целью которого является воспроизведение реального бытия через повторение, отражение или воспроизведение вещей внешнего и внутреннего мира.
Цель сердца , понимаемого символически и представляющего собой психический механизм, а, повторим, не орган, – является «создание цельности жизни», то есть установление живой связи личности с внешним миром и с собственным внутренним миром. В гармоничном варианте функционирования сердце обеспечивает человека жизненной энергией и любовью к жизни, то есть способностью легко преодолевать трудности и страдания. «Сердце» связано с темой воспитания как такового. Под воспитанием часто понимают воспитание ума и воспитание воли, а сфера чувств воспринимается как неконтролируемая. Тогда как невоспитанность чувств создает по-настоящему невежественного человека. Сердечная часть души также требует исследований и систематического внимания, и ее развитие является одной из центральных целей курса.
Воля представляет собой организованный комплекс душевных явлений, включающий потребности, желания, мотивы, выбор, решения, усилия – то есть все то, что в соединении приводит к движению, сначала душевному, а затем и внешнему, физическому, а значит, осуществляет перенос психической жизни с внутреннего мира на внешний.