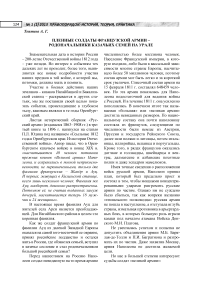Пленные солдаты французской армии - родоначальники казачьих семей на Урале
Автор: Тептеев Александр Григорьевич
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Служу отечеству!
Статья в выпуске: 1 (1), 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14118799
IDR: 14118799
Текст статьи Пленные солдаты французской армии - родоначальники казачьих семей на Урале
В настоящее время фамилия Ауц для жителей села Арси является преобладающей. Для Нагайбакского района в целом это коренная фамилия.
Как же солдат французской армии по фамилии Ауц из далекой Западной Европы оказался на самой юго-восточной ее окраине, принял российское подданство и остался жить в России, где обзавелся семьей, вступил в казачье сословие и стал родоначальником большой российской семьи?
Перед нашествием на Россию Наполеон создал невиданную на то время армию численностью более миллиона человек. Население Французской империи, в которую входили, либо были в вассальной зависимости многие страны Европы, насчитывало более 50 миллионов человек, поэтому состав армии мог быть легко и за короткий срок увеличен. Списочный состав армии на 15 февраля 1811 г. составлял 648459 человек. Но эта армия показалась для Наполеона недостаточной для ведения войны с Россией. И в течение 1811 г. она усиленно пополнялась. В конечном итоге так называемая «большая» или «великая армия» достигла невиданных размеров. По национальному составу она почти наполовину состояла из французов, следующими по численности были немцы из Австрии, Пруссии и государств Рейнского Союза, далее шли поляки и литовцы, потом итальянцы, иллирийцы, испанцы и португальцы. Кроме того, в рядах французов оказались датчане и голландцы, швейцарцы и венгры, далматские и албанские пехотные полки и даже эскадрон мамелюков.
Имея точные сведения о расположении войск русской армии, Наполеон принял план, который был предельно прост и состоял в том, чтобы мощными концентрированными ударами разгромить русские армии по частям. Однако им не суждено было сбыться, так как вопреки желанию «гениального полководца» русская армия не пошла в наступление, а отступала вглубь страны, изматывая противника в арьергардных боях, в которых большую роль играли казаки под началом атамана Войска Донского М.И. Платова.
Не увенчалась успехом и попытка не допустить объединения армии М.Б. Барклая-де-Толли и П.И. Багратиона и разгромить их по частям. Даже захватив Москву, армия Наполеона не достигла желаемой цели.
Но нас в большей степени интересуют судьбы солдат «великой армии»:
Итак, в декабре 1812 года российскую границу перешли обратно по разным оценкам от 30000 до 80000 человек. Возникает резонный вопрос: а куда же подевались остальные из более чем 600000 человек? Потери французских войск убитыми в сражениях, по разным данным, составляли от 125000 до 150000 человек, более чем 200000 человек погибло от голода и болезней. Пленными «великая армия» потеряла от 190000 до 200000 человек, в том числе «48 генералов и более 4000 офицеров». Одними из первых пленных французов были солдаты из корпуса маршала Удино, воевавших против Первой западной армией русских. На третий день войны, 15 июня 1812 г., прикрывая отход основных сил, арьергард под командованием генерал-майора Кульнева захватил «человек 20 пленных». И если первые пленные исчислялись единицами и максимум в пределах двух-трех десятков, то впоследствии численность пленных единовременно попадавших в плен исчислялись несколькими десятками тысяч человек.
Но вот в самом грандиозном сражении Отечественной войны 1812 года, Бородинском, где с французской стороны из 130000 участников погибли 50000 человек, а потери русских составили 57000 погибшими из 113000 участвовавших в сражении, «пленных не брали, с каждой стороны было не более 1000 человек».
Не везло тем, кто попадал в руки крестьян и мещан, так как брать в плен не входило в задачу «простого народа». Свою задачу крестьяне видели только в истреблении врага, что они добросовестно и делали. Много пленных захватывали партизанские отряды, состоявшие в основном из гусар и казаков. Нередко партизанские отряды принимали участие в крупных операциях. Так, 28 сентября 1812 г. отряд генерал-лейтенанта И.С. Дорохова взял городок Верею, который был французами специально подготовлен как опорный пункт в борьбе с народными мстителями. В результате этого боя захвачено в плен «14 офицеров, 350 нижних чинов, трофеем было знамя». А отряд князя Кудашева, который состоял из двух казачьих полков «в числе пятисот человек»
на Серпуховской дороге разбил 6 эскадронов, прикрывавших отряд французов» .
Через два месяца, после начала французского нашествия, в августе 1812 г. правительством императора Александра I « поставлены были Правила о пленных» . В Правилах определялись маршруты конвоирования пленных, обеспечение их питанием, одеждой и источники финансирования мероприятий, связанных с содержанием пленных. Правила эти, были созданы на основании Указа Императора Александра I от 28 ноября 1806 г. «О продовольствии взятых в плен французов». Данный Указ был подготовлен «вследствие представления генерала от кавалерии барона Беннигсена» главнокомандующего русской армией, воевавшей против французов на территории Польши в русско-прусско-французской войне 1806–1807 годов.
Согласно Указу 1806 г. велено было «всех пленных французов … препровождать в Гродно», собрав их в особые «партии», и под военным конвоем из Гродно препроводить в губернии «лежащие позади Казани: Вятскую и Пермскую», куда «отправляемы будут одни только нижние чины, а офицеры, какого бы звания ни были, в Симбирск». При отправлении пленных предписывалось «снабжать их одеждою и обувью, сообразно временам года», при необходимости больных и раненых помещать в городские госпитали. Для перемещения пленных предоставлять подводы «на каждых 12 человек по одной обывательской лошади, для тяжелобольных, буде случиться, по одной подводе на двух человек, а под пленных офицеров для каждых двух человек по одной подводе в две лошади». В пути следования и по месту, куда будет определено место жительства пленных, «ни малейшего притеснения или пренебрежения ни от кого чинимо им не было, но притом и того наблюдать, чтоб вели они себя скромно и послушно». Кроме того, «производить... на содержание каждому в сутки: генералам по 3 руб., полковникам и подполковникам 1 руб. 50 коп., майорам 1 руб., капитанам и прочим обер-офицерам по 50 коп., унтер-офицерам - 7 коп., рядовым и нижним нестроевым чинам - по
5 коп. И сверх того, унтер-офицерам, рядовым и нестроевым нижним чинам провиант противу солдатских дач».
В Правилах о пленных 1812 г. были сохранены практически все пункты Указа 1806 г., за исключением места концентрации и маршрутов следования пленных, и ещё естественно было увеличено количество губерний, куда надлежало переправить пленных, в связи с тем, что «в исходе 1812 г. главные города внутри России переполнились пленниками». К Казанской, Вятской и Пермской губерниям добавились Оренбургская, Саратовская и Астраханская. Кроме того, пленных поляков французской армии отправляли на Северный Кавказ, испанцев и португальцев – в Петербург. А из числа пленных, которые стали «изъявлять желание вступить в русскую службу», формировались батальоны в городах Орел, Петербург и Ревель.
В целом пленные вели себя спокойно, но были и случаи когда « они отбивали пики у конвойных крестьян и ратников и скрывались », были и побеги, совершаемые без насилия над конвоирами, просто воспользовавшись «лишь случаем».
Но несмотря на предполагаемые и принимаемые меры для облегчения участи пленных, как отмечали военные историки – исследователи Отечественной войны 1812 г., Российское государство, ведя войну, «где и Русская армия с нуждой имела пропитание, а иногда бывала без хлеба», просто не смогла «физически» обустроить такое количество пленных. Многие гибли при переходах «до мест, не разоренных» войной, когда местное население из ненависти к неприятелю «больных и истомленных выкидывали с подвод на поля и в снег». После изгнания неприятеля за пределы страны «сострадание взяло вверх над ненавистью к врагам, и русское добродушие спасало их от неминуемой смерти». Но период «сострадания и добродушия» продлился недолго, среди пленных начались эпидемии «злокачественных и прилипчивых болезней», что вынудило местное население не допускать пленных в деревни и города. Вся помощь, которую смогли организовать местные власти по мере продвижения вглубь страны, «что пленных ставили на ночлеги в нежилых избах, и как можно далее от обывателей, запрещали им всякое сообщение с поселянами, окуривали их, сжигали трупы и одежду умерших».
Но некоторым пленным везло необычайно и, наверное, таких случаев было множество и только по одной причине, что как писал один из первых исследователей судеб пленных солдат армии Наполеона в России П.Л. Юдин, «так как у нас в то время сложилось убеждение, что каждый француз, кто бы он ни был, непременно человек образованный. И каждый надеялся в лице пленного француза иметь дарового учителя французского языка и «всем прочим наукам».
Далее же приведем, выдержку из статьи вышеуказанного автора из «Русского архива» за 1896 год: «Один помещик Тамбовской губернии, поручик Тамбовского полка Пушкин, возвращаясь с «Борисовского сражения», по дороге захватил какого-то француза, почти уже замерзшего, и привез его к себе в деревню, куда ехал для поправления здоровья вследствие полученной им в сражении раны. Его (имеется в виду француза) обогрели, накормили, одели и отвели отдельную комнату. Пленник жил в полном довольстве, какого вероятно не видел и в своей счастливой Франции. С поручиком Пушкиным они скоро сделались неразрывными друзьями: вместе ездили к соседям-помещикам и вместе устраивали шумные оргии и попойки. Часто под воздействием винных паров друзья вступали в примерное сражение или, выражаясь официальным языком, «совершали схватки, как бы на войне». И не вытерпев «сражения двух храбрых воинов» мать поручика Пушкина, обратилась с жалобой в Петербург на то, что ее «сын, поручик Пушкин, ведет себя непристойно, и с ним в буйстве и пьянстве участвует пленный француз Демутье». В ответ на жалобу на имя Тамбовского губернатора пришло распоряжение «за надлежащим караулом препроводить Демутье на жительство в Оренбург, а поручику Пушкину немедленно явиться в свой полк».
По данным современного историка В. Сироткина, к лету 1814 г., пленных в Оренбургской губернии было около тысячи. Он же утверждает, что из 200000 пленных к концу 1814 г. «не менее ста тысяч солдат и офицеров осталось в России. Из них не менее 60 тысяч перешли в подданство России – больше, чем вывел из Русского похода Наполеон» . Отыскал следы «великой армии» В. Сироткин во многих частях России: от Кубани до приполярного Сыктывкара и даже в таежной глуши Алтайских гор. По мнению исследователя, подавляющее большинство из находившихся в Оренбургской губернии пленных составляли немцы .
14 декабря 1814 г. был издан Манифест, по которому «все пленные французы были освобождены» , что дало им возможность вернуться на Родину. Но были и такие, которым «так понравилось житье в России, что они пожелали остаться в ней навсегда и приняли русское подданство». Находившиеся в Верхнеуральском уезде французы Антоний Берг, Шарль-Жозев Бушен, Жак-Пьер Бине-лон, Антон Виклер и Эдуард Ланглуа были зачислены в казачье сословие Оренбургского казачьего войска. По имеющимся сведениям известно, что в казаки просились итальянец Антон Брего и француз Будье.
Более длительным оказался путь в казачье сословие солдата французской армии, этнического немца Вильгельма Гаутца, записанного как Аутц. По утверждению одной из представительниц рода Ауцев в семье бытовала легенда, что из фамилии была «утеряна» одна буква. Но, как оказалось, «потеря» была более значительной и составляла не одну, а две буквы.
Когда и где попал в плен Вильгельм Гаутц, вряд ли удастся сейчас установить. Но как бы то ни было, оказались он и ещё четверо его сослуживцев «Филипп Юнкер, Лейнар Жи?ец (буква в документе нечитаемая), Петр Пац и Миллер Овилер» в слободе Верхняя Кармалка, что в Бугульминском уезде Оренбургской губернии. Зачислили их по обычаям и правилам первой половины XIX в. в « число государственных крестьян».
« Илья Кондратьевич », так, по утверждению П.Л. Юдина, на русский манер величали
Вильгельма Гаутца, «женившись на крестьянской девушке Татьяне Харитоновой», имел четверых детей: «сыновей Симона и Ефима, дочерей Екатерину и Анну». И Филипп Юнкер также имел четверых детей «сыновей Рикса и Павла, дочерей Варвару и Александру».
Перед тем, как стать казаками, Юнкер и Гаутц получили согласие жителей Верхней Кармалки на переход их из сословия государственных крестьян в разряд « белопахотных солдат». Но прежде чем зачислить их в «солдатские малолетки», губернатор Оренбургского края Эссен велел узнать у претендентов, «желают ли они в казаки», так как «все солдатские малолетки назначаются в казаки и в скором времени должны быть причислены к Оренбургскому войску». Когда был получен положительный ответ, « Эссен о таковом желании немцев, донес министру внутренних дел» , который сообщил, что ни военный министр, ни министр финансов не против «перечислению » казенных поселян в казачье сословие Оренбургского войска. И, «26 мая 1834 г. от них были отобраны подписки в том, что отношение Оренбургского военного губернатора о непрепятствии нам на перечисление себя в состав казаков выслушали, в чем на немецком языке и под-писуемся».
А с весны 1843 г. длинные вереницы обозов «с 1892 семейства белопахотных солдат и солдатских малолетков из Бузулукского и других уездов потянулись на земли заселяемого Новолинейного района.
В числе «205 белопахотных солдат и малолетков », поселившихся в станице с «предполагаемым названием Арси » и «месте, предназначаемом для водворения под № 24 6-го полкового Округа», была и семья Ильи Ауца, который через десять лет после переселения « в 1853 году с именем Василия принял православие », став родоначальником большой славной русской семьи Ауцев. И если к концу XIX в. П.Л. Юдин насчитал «без учета выданных замуж дочерей, 18 мужчин и 24 женщины», то к началу XXI в. одна из представительниц рода Ауцев установила уже более ста прямых потомков казака Оренбургского казачьего войска Василия Кондратьевича Ауца.
Тептеев Александр Григорьевич , историк-краевед, Нагайбакский район Челябинской области